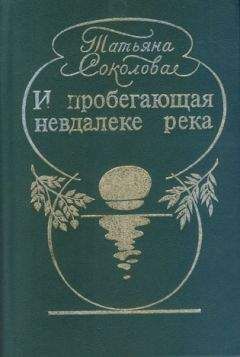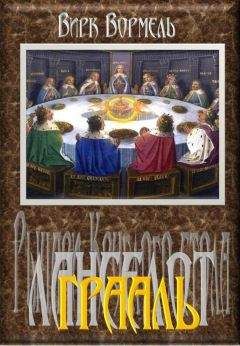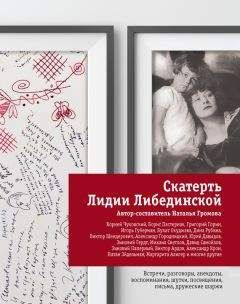Раньше все было совсем по-другому. Из сарая, дощатого строеньица, стоящего в ряду других таких же, пропахшего подсыхающими березовыми вениками, заполненного дровами, старыми ведрами, велосипедными колесами, вытаскивалась пузатая, слабо стянутая металлическими обручами деревянная кадушка.
Отец, притворно тужась, смешно выпучивая свои молодые голубые глаза, обнимал кадушку руками, легко нес в дом. Мать кадушку тщательно, любовно бучила: обваривала кипятком, бросала внутрь пучки пахучих трав, накрывала старой клеенкой и половиками. Дня через три кадушка становилась еще пузатей, размякала, готова была вылезти из обручей, пахла густо и пряно, торопила. И начиналось главное: приходили тетки с мужьями, дядья с женами, с круглого стола посреди большой квадратной комнаты, которая и составляла их дом, снималась скатерть, человек десять становились плечом к плечу вокруг стола и весь вечер стучали ножами, смеясь, что-то говоря. Румяные, сильные, какие-то свежие, наперегонки подбегали к кадушке, махом ссыпали в нее нарезанную капусту. Мать, невысокая, с блестящими щеками, встряхивая тугими колечками химзавивки, шутливо расталкивала работников упругим телом; россыпью, что-то шепча при этом, — бросала в кадушку коричневую, рассыпчатую, будто сырую соль, глазастые зерна укропа, похожую на оранжевые леденцы пропущенную через крупную терку морковь.
Наташка и Колька сидели на комоде; по очереди, по команде отца, спускались в кадушку и трамбовали капусту голыми ногами, Колька прыгал, Наташка слезала осторожно, твердая капуста хрустела, холодила ступни, чавкала едким рассолом. Когда кадушка была полна, мать клала сверху деревянный, выскобленный дожелта круг, отец водружал на него гранитный камень. Камень был тогда треугольным, шершавым, с острыми зазубренными краями, Наташке всегда хотелось потрогать его, погладить, она прикасалась к нему и тут же отдергивала руку, ей казалось, камень впивается в ладошку как живой. Стол вытирался тут же насухо, застилался крахмальной скатертью; зеленые капустные листья, с утра еще живые, прикрывавшие твердь кочанов, умирая, вяли в углу; застолье, с густыми мясными запахами, белоголовыми бутылками, крепким табачным дымом, с песнями, плясками, частушками под счастливый визг баб и однообразное пиликанье маленькой гармошки, длилось до полуночи.
После армии Колька домой не вернулся.
— Надоело солить капусту, — объяснил он Наташке, когда она спросила его почему.
— Где ж зятек? — спросил теперь отец, в той же большой квадратной комнате, где добавились громоздкая полированная стенка и пестрый ковер во всю стену, скатерть на столе бархатная, не снимается, лишь покрывается куском полиэтиленовой пленки.
— Он бегом занимается. — Наташка засучивает рукава, хватает первый попавшийся кочан, встает у стола напротив отца.
— Блядством он занимается, — сердито говорит отец, шагнув к кадушке, смахивает в нее белеющую горку капусты, маленький, будто усохший, с седым ежиком на затылке. — Я вот с ним разберусь.
— Оте-ец, муж да жена одна сатана. Они помирятся, мы виноваты будем. — Мать механически бросает в капусту соль, укроп, морковь, прихрамывая, переваливаясь, возвращается к столу, грузная, осевшая книзу. — К юристу ходила?
— Ходила. — Наташка кивает. — Обсмеял он меня.
— Еще б не обсмеял. — Отец зло всхохатывает, что-то в горле его при этом взбулькивает; капустные компании не собираются с тех пор, как стали заканчиваться скандалами, даже драками, капуста давно солится своей семьей, по выходным, в той же пузатой, потемневшей, пахнущей затхлым деревом кадушке; отец часто приходит домой пьяным, виновато-злобно объясняет матери, что все пьют. — Скоро весь город хохотать будет. Зятек выискался.
— С кем, говорит, домоуправ судиться собрался? С горисполкомом? Такого не бывает. — Наташка ожесточенно кромсает капусту; она раскраснелась, полноватая ее молодая фигура легко ходит под ситцевым халатиком, уши горят, глаза блестят влажно, смотрят в стол, главного Наташка не рассказывает. «Хотите частный совет? — добавил при этом пахнущий дорогим одеколоном, весь гладкий какой-то, прилизанный юрист. — Вам надо забеременеть, а еще лучше, если б вы были матерью-одиночкой. Вы меня понимаете?»
Наташке двадцать лет, но до нее успела дойти воплощенная в жизнь легенда, как перед самой войной решили построить в их районном городке десять благоустроенных домов для народа, вот они, вся улица в них, двухэтажные, из толстого, темно-коричневого теперь бруса, с большими окнами, балконами, трехкомнатные квартиры с кухнями, ванными, туалетами. Ванные и туалеты оборудовать не успели, в них теперь кладовки, туалет на улице, по одному на два дома, воду жильцы носят с колонки. На всех квартир тогда не хватило, какой семье досталась одна комната, какой две. Времени прошло много, дома теперь аварийные, никого не прописывают. Но Наташке повезло: когда она вышла замуж, на втором этаже, прямо над родительской комнатой, освободилась такая же. Мать пошла в горисполком, и начальник, который раньше работал с ней в цехе, дал письмо, разрешающее занять комнату временно, без прописки. Когда комнату отремонтировали, явился домоуправ с двумя мужиками и заорал, чтоб убирались, ордера у них нет, а он законных жильцов привел. Прибежала снизу мать, встала в дверях стеной, кричала навею улицу, что только через ее труп, у нее бумага есть. Почти год домоуправ ходит, грозит судом, мать пуще глаза бережет разрешающее письмо, а того начальника уже перевели куда-то.
— Жрать-то ведь будет, ешти-его. — Отец по пояс скрывается в кадушке, уминает капусту пестиком.
— Ну, че ты, отец, он теперь ей белье на реку полоскать таскает, — уговаривает отца мать.
— Хоть бы образованный какой, — не унимается отец. — Слесаришка, как я. Удостовере-еньев попервости вытащил, и тракторист он, и шофер, и механик. Теперь еще в техникум поступил. Каждой дыре затычка. Нигде от него, видно, толку нету.
Муж Наташки Павел старше ее почти на десять лет, не курит, не пьет, в баню с отцом ни за что ходить не хочет.
— Да ты че, отец, — вразумляет мужа мать, — у него на книжке пять тыщ.
— Пять тыщ. — Нездоровый пот покрыл лицо отца, от наклона в кадушку оно побурело. — Хоть бы городской какой, понимаю. Как я, из глуши из самой, а морду воротит. Че он морду-то от нас воротит? — обращается он к дочери.
— У него и спроси, — отвечает Наташка, по пути к кадушке далеко обходит отца.
— Может, доча, последить тебе за ним? — Мать, охая, опускается на диван, ноги у нее болят давно, она стоит у станка с семнадцати лет. — Ведь домой ночевать только ходит.
— Да кому нужна эта ваша капуста! — Наташка бросает нож на стол, нож соскальзывает с оттолкнутой дощечки, катится под стол, Наташка лезет за ним, кричит оттуда: — Весной не знаете, кому ее навелить! А это зачем? — Вылезая, она показывает рукой на приготовленные для спуска в погреб банки с соленьями и вареньем. — Раздадите или выбросите по весне.
— Да ты че ж это, доча? Че ты говоришь? — удивляется мать. — И вам ведь тоже.
— Это он, он ее настропалил, — почувствовав в жене союзницу, обращается отец только к ней. — Погоди, она еще не такие зубы покажет. И тот умотал, — вспоминает он сына, — и эта морду воротит. Дурак был, бить надо было.
— Замолчи, пьяница! — Наташка окончательно бросает нож, прихватив со стула кофтенку, бежит к двери, ошарашенные родители не успевают ей ничего ответить.
Комната наверху, с голыми белеными стенами, высоким мокнущим потолком, заставлена громоздкими шкафами, собранными матерью со всего дома, чтоб не так просто было выселить, если обнаглеют, все равно огромна и неуклюжа. Наташка опускается на свободный пятачок посредине, застланный пушистым паласом, глядит бездумно в окно, двойные рамы которого составлены из множества звеньев, будто застекленная решетка.
Все обман, неожиданно решает Наташка. Окно царапает ветка старого клена, поднявшегося выше прохудившейся крыши, ветка похожа на костлявую, болотного цвета, четырехпалую руку, зажавшую в горсти засохший светло-коричневый листок. Когда начинается листопад, Наташка держит окно открытым, лимонно-желтые листья влетают в него с неправильно разграфленного ветками выцветшего бело-голубого неба. Чем хуже, тем лучше, не может смириться Наташка, хотя уже почти год сидит вечерами и по выходным одна в этой комнате, стирает, готовит ужин, гладит светлые однотонные рубашки, что-то читает, смотрит маленький телевизор, ждет. Он приходит в половине двенадцатого ночи, усталый, с худым серым лицом, запавшими под широкие гладкие брови мутно-серыми глазами, бросает в корзину грязную рубаху, достает свежую, аккуратно свертывая, укладывает ее в спортивную сумку на завтра, ничего не ест, ложится рядом с ней в постель, иногда недолго гладит ее, поворачивая к себе, быстро находит в темноте ее губы, шепчет «Наталя, Наталя», а потом откатывается к стене и тут же засыпает, дышит бесшумно, без сопения и храпа, он всегда забывает выключить свет в коридоре.