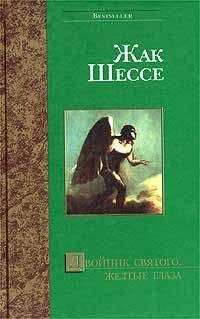Когда меня привели в замок, ох и обрадовался же я! Тут же вручили мне губную гармонику, чтобы я исполнил «Маленькую рать», я сыграл, им понравилось, воспитатели были очень милы, и все отправились ужинать. Затем мне показали мою комнату – на окнах не было решеток, сказали, что это свидетельство доверия ко мне. Я заснул, а назавтра пошли серьезные дела.
«Оставь гармонику при себе, в кармане, или положи на столе в трапезной, никто ее у тебя не отберет», – сказали. А я все же решил приберечь ее, потому как, играя, набираюсь сил, мне нравится и «Маленькая рать», и «Флаг», и другие вещи, которые я умею исполнять. Когда меня не одолевает слабость, я работаю, слюна у меня больше не течет – так говорит доктор, что верно, то верно: музыка благотворно на меня действует, и я вынужден держать слюну во рту, ведь когда играешь, слюни мешают.
Все утро заготавливали дрова в лесу пониже замка, напротив леса – холм, вдоль дороги – кладбище: на нем хоронят таких, как я, – теософов[1], а мы долго не живем. Но короткая жизнь, наполненная благодатью, длиннее, чем долгая жизнь без Христа, – сказал мне пастор во время передышки в лесу, когда я жевал хлеб с сыром, сидя на пне, и слюни у меня не текли, а пастор сказал так из-за близости кладбища.
– У тебя хороший аппетит, Джим, – сказал он, – а молишься ли ты перед едой и перед сном, Джим?
– Да, молюсь, а еще повторяю слова «Маленькой рати» и «Флага».
– Это мелодии, которые ты исполняешь?
– Эти и другие. Кое-что играю для себя.
– Короткая жизнь с благодатью, слышишь, Джимми, жизнь во Христе – тебе это дано. Молись. Когда ты рубишь стволы, ангелы с тобой, только ты их не видишь, зато они видят тебя и помогают тебе, Джим.
Приятно знать, что ангелы со мной и помогают мне. Потом я отправился на кухню – подсобить с полдневной трапезой: чистил картошку, а повар – такой добрый – угощал нас патокой, говорил, что патока помогает держать рот закрытым. Я получил несколько ложек и даже закашлялся, а слюни у меня не текли.
Затем мы с Марией мели сор на лестнице, ведущей в подвал, Мария была так близко от меня и сказала мне: «От тебя пахнет сладким», а потом еще лизнула мой рот своим язычком, а я запустил ей руку в трусы, там было мокро. Кончили подметать и поднялись наверх, а Мария мне и шепнула: «Можешь трогать сколько хочешь», и тут зазвонил звонок к трапезе. Мария сидела на другом конце стола вместе с нашими воспитателями и их женами и помогала подавать блюда. Когда она положила мне на тарелку мою порцию, я снова услышал ее запах и еще сильнее обрадовался. Пастор прочел молитву, и мы хорошо поели. Здесь после еды полагается отдых, не так, как в других местах, где сразу гонят на работу и надо вкалывать до изнеможения. Я поднялся в свою каморку, пришла Мария, я снова запустил руку ей под юбку, из нее текло что-то похожее на слюну, только более нежное и пахучее. И она меня потрогала, и я все выпустил ей прямо в руку. А потом она сказала: «Где твоя гармоника, ты мог бы сыграть для меня». Но я побоялся сходить за ней вниз, еще спросят, почему я не отдыхаю, поднимутся ко мне и увидят нас вместе. У меня всего лишь одна короткая жизнь. Не буду же я портить ее, теряя благодать, которая мне дана.
Несколько дней спустя в замке был прием. Целый день у нас гостили дамы и господа, разные советники и тому подобное, мы готовились, драили все, повторяли песни, заучивали небольшую речь, чтобы произнести ее хором, меня послали на кладбище – подрезать изгородь из лавра и соскабливать мох с могил. При входе табличка: КЛАДБИЩЕ ТЕОСОФОВ – почерневшая, ржавая. Я подновил буквы, помыл эмаль. Делая все это, я подумал: а ведь где-то тут уготовано местечко и для меня. Там было как раз одно пустое место, и я прилег, чтобы примериться: стало так хорошо, спокойно. Поскольку кладбище частное, твои останки не выкинут из могилы, как в других местах, по прошествии определенного времени. Вот похоронят меня здесь, и я обрету покой на более долгий срок, чем длилась моя жизнь. И так это меня обрадовало, что, сидя на своей могилке, я стал играть на гармонике. Пришли пастор и воспитатели. «Джим, Джим, чем это ты занимаешься, дружок? Грех играть на кладбище, здесь собираются с мыслями». Слава Богу, я уже справился с порученной мне работой. Когда настал парадный час, мы пели, ходили смотреть кладбище, конюшни, спортивный зал, а во второй половине дня Мария поднялась ко мне, спустила с меня штаны, и, кажется, опять что-то произошло. Из меня текло, и она подбирала это своим ртом. Затем колокол созвал всех к ужину, я стоял в трапезной и играл на гармонике, а одна дама сказала своему мужу: «Пропусти его, это Божий человек». Я вошел первым, играя «Флаг».
– Джим, Джим, – часто стал повторять пастор, – ты хорошо себя вел до сих пор. Что с тобой случилось? Ты можешь мне объяснить?
Но я ничего не могу объяснить. В день, когда приехали все эти важные дамы и господа, я ушел из замка. Мария ждала меня, и мы пустились в путь: сначала прошли деревню, затем напрямую через поля дошли до города. Там они нас и сцапали – мы были голые, так они сказали, голые, словно только что появились на свет, или как Адам и Ева. «Они были голые, Мария попыталась удрать, а Джим выпрыгнул в окно».
– Вот до чего ты докатился, наш бедный Джим. Так упал, что разбил свою бедную голову, которая и без того была совсем слаба. А подумал ли ты о замке, о своей комнатке, о работе, которая тебя ждет? А о своих родителях, которые на небесах с Иисусом и ангелочками, ты подумал?
Два дня продержали меня в «Скорой помощи», потом перевели в приют, а уж оттуда в замок. Марию отправили в другой приют, а какой – не сказали.
– Так лучше для тебя, мой бедный Джим, нам стало кое-что известно, для вас это плохо кончилось.
Голова болела, меня шатало, но как только я смог передвигаться, я стал расспрашивать всех – и внизу, в деревне, и в мастерских, и у садовника, – куда ее упрятали. Никто не знал. Сказали только, что это не впервой, и виновных, беглецов, обычно переводят в другое место, в немецкой части Швейцарии, но немецкая Швейцария велика, и мне никогда не найти Марию. «Хорошо еще, если она не окажется беременной», – говорили они промеж себя, а кое-кто и вообще перепугался и держал рот на замке.
Еще год прожил я в замке. После падения снова начал работать – в лесу, в дровяном сарае, на кухне, но теперь за моей спиной все время торчал воспитатель: следил за мной, беседовал; зимой я простудился, слег, стал харкать кровью, меня поместили в больницу. Однажды я услышал, как главный санитар давал наставление ночному сторожу: «Запри его на два оборота. Этот блаженный – беглец».
Я все же удрал от них, но иначе, так, как они и не ожидали. У них в лаборатории хранится множество всяких порошков, и я это знал, я ведь не идиот какой-нибудь. После того, как погасили свет, я проник в коридор: горела только синяя лампочка, и от этого сделалось тоскливо, потому как очень подходило к тому, что я собирался сделать. Склянки стояли в застекленном шкафу, он был не заперт, оставалось лишь взять их, разбить, проглотить – и готово: ты умер.
Кажется, я помер не сразу, помню длинный туннель. Но я был уверен, что доберусь до его конца. Со мной снова была моя гармоника, я играл свои песенки, а потом очутился на широкой равнине, где на обнаженную землю лился какой-то ровный свет. Я же оказался под землей, в ящике, сквозь который отчетливо слышны все звуки. Мне удается различать их, что помогает скоротать время, они были правы – я умер в тридцать шесть лет, что и говорить, немного, но я доволен – передо мной вечность, вот уже два года, как я считаю звуки из-под земли: голоса, шаги. Они разные в зависимости от часа, времени года и погоды. И только мое время остановилось, ведь я умер, а короткая жизнь с благодатью длиннее и богаче, чем долгая жизнь без Христа. Порой у меня появляются глупые желания: посидеть на солнышке на краю своей могилки и съесть банан. Или подняться наверх и посмотреть, не вернулась ли Мария. Вот бы мы опять позабавились, как раньше, но на сей раз меня бы не поймали – как поймаешь мертвого, а Иисус меня любит, и ангелы тут неподалеку потряхивают своими крылышками. А иной раз я иду по дороге, хоть и остаюсь на месте. А знаю я это вот откуда: я не переступаю границы кладбища и все равно иду, а белая дымка, этот бесснежный снег, обволакивает меня и останавливает. Это и есть смерть. «Теперь уже отдыхай, Джим, Джим». Когда были живы мои родители, они мне говорили: «Не беспокойся, Джим, не бойся, ты не такой, как все, когда папа и мама умрут, кто-нибудь непременно о тебе позаботится и будет тебя любить». Я часто думаю о них. Нет, не зову их. Они умерли, они тоже идут по дороге, окутанные белым саваном, только вот по какой дороге? Длинная эта дорога – смерть. Вот если бы я сидел на краю могилы и ел банан, я мог бы спокойно оглядеться и, как знать, увидеть их, а то и других мертвых, о которых я помню. А увидят ли они меня, если пройдут? За два года, что я тут лежу, ветер три раза валил мой крест, а может, и не ветер, а дождь, мне ведь не видно, так приходили из замка поднимать его: а то вдруг гости понаедут, а тут такое. Но давно что-то я никого не слышал. Может, важные господа больше не приезжают? И не устраивают полдников, таких, как тогда, когда дама назвала меня «Божьим человеком» и попросила исполнить «Маленькую рать», узнав от нашего воспитателя, что я хорошо играю. На полдник тогда подали печенье, которое приготовил повар, и мед, и варенье, но ни мяса, ни копченостей не было – этого в замке не едят. А у меня вот уже два года маковой росинки во рту не было, только слова откуда-то до меня долетают, проходя сквозь землю, приходят, уходят, как и звуки, как и время, которое для меня остановилось. Кости мои размягчаются под зеленой травкой. Как ни старайся вспоминать о том, что было, слушать советы живых, которым и невдомек, что они с тобой разговаривают, если ты умер – время уже не то.