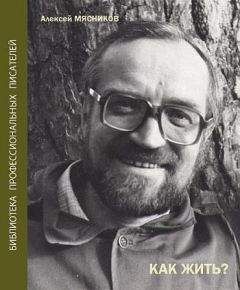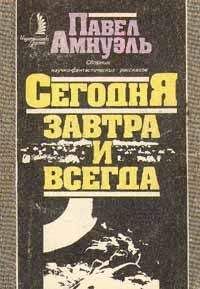Алексей Мясников
Как жить?
Проза разных лет
Хочется говорить о розах. Ну, или как там у Берлиоза в «Фантастической симфонии»: «Не поля — это сон о полях». Или в свое время наш критик Анненский Л. — «Жажду беллетризма!» Вот и я жажду чего-то, поля необозримые цветут красным маком.
…Приехал я как-то в Горный Алтай, там столица так и называется — Горноалтайск. Автономия в Алтайском крае. Был я в командировке, и люди из местного руководства повезли меня в горы. Горноалтайск и так в горах, а мы поехали выше, где самые чистые краски, и Катунь внизу царственно шествует, полощет синей лентой по глазам, уходя в горах за поворотом.
Была у них водка с желтыми этикетками, рисовая, вьетнамская, что ли? Сидели, и все шло хорошо. Я любовался четким рисунком гор и чистым цветом всего, что здесь произрастало. Ясность была необыкновенная. Такой я не видел никогда и по сей день. Спутники мои, кажется, не замечали этого, они живут здесь, вроде как мы на городских помойках.
Да я не сравнивал. Просто дышал, пил водку и радовался. Весна ли была, или так уж высоко мы забрались, но где-то еще снег лежал и сиял лоскутами. Мы делали шашлык (мы — это звучит гордо, я тут не участвовал). Ненавязчивые разговоры. Костер. И все же я думал, как сюда попал.
Не считал, сколько у меня было командировок в Алтай. Был я и в Рубцовске. А тут помню только, как прилетел в Барнаул. Зашел вечером в ресторан, а там сидит знакомый москвич, из кино или художник — шапочное знакомство. Мы с этим художником оказались в квартире с двумя девками. И до утра, он — одну, я — другую.
Потом я поехал в Бийск. Сранный такой городок, жрать нечего, котлеты вонючие, наплевать — здесь я проездом. А вот чего нельзя было упустить — так это Сростки. По пути в Горноалтайск.
Остановили в Сростках машину. Где жил Шукшин? Показывают новый бетонный дом, который он построил для матери. Как раз у горы Пикет. Холм такой, — он в «Печках-лавочках», — и, вообще, собирались после смерти Макарыча туда ежегодно со всей страны. Теперь об этом что-то не слышно.
А ведь смотри, какой Алтай! Раньше славился пшеницей, потом тракторами Рубцовска, а теперь, видно, там ничего не осталось: ни Шукшина, ни Евдокимова, да и Золотухина — ни. Грустно без них.
Когда я там был? Год или два после смерти Василия Макарыча. Повели меня ниже, в дом, где он жил с матерью и репрессированным отцом, которого он из-за младости лет даже не помнил. Разверстка в 30-х была такая: столько-то от каждого города, района надо было посадить — 10 % как врагов народа.
Дом тот был уже вроде музея, там непонятно что, но заведует бывшая учительница или библиотекарша, которая знала юного Шукшина. Сельская баба, чего-то рассказывает, что уж давно всем известно, но добрая тетка повела опять в новый дом, к Пикету. Взял я там, в огороде, горсть земли с собой, так и поехал дальше. В Горноалтайск.
Потом я вернулся в Барнаул. Надо лететь домой в Москву. Завтра. Позвонил той подруге из ресторана. Она приехала в ведомственную, закрытую гостиницу, куда меня поселили на ночь. Симпатичная баба, лет двадцать пять, да и мне было не на много больше, вижу, трусы рваные, как же они здесь живут? Трахался со смешанным чувством: и жалко, и баба вроде бы неплохая, но брезгливо.
Выпили мы бутылку той самой рисовой водки. Я поехал в аэропорт, у меня еще оставалась одна. На контроле в аэропорту видят, что я поддатый, нашли ту бутылку 0,7, изъяли, разбили. Чего разбивать? Взяли бы себе, спокойно выпили — нет! Так я и улетел недовольный, но уже с вечной памятью о той женщине в рваных трусах, о сиянии Горного Алтай и с горсткой земли из огорода Шукшина.
Дома насыпал эту землю в пустой цветочный горшок. И забыл. Теперь вспоминаю, где я тогда жил, с женою или уже без, не это важно. Помню одно — вдруг из горшка — зеленый росток. Ну, я такой ботаник, не знаю, что за росток, но знаю, что это из земли Шукшина.
Что это было? Возьмите вы где-нибудь горсть земли, и если случится подобное, скажите, мне интересно. А тот зеленый росток днями стоял передо мной — как вроде бы Василий Макарыч осеняет меня своим личным присутствием. Любя его и тогда, и навечно, так мы совсем породнились.
… А ведь хотел написать о красоте. Которая есть в природе. Которую я видел в Горном Алтае. Но стебель этот в горшке… Я и подумал, что не цветы красят жизнь, а художник оправдывает наше присутствие в этой жизни.
В. М. Шукшину посвящается
Вот сколько живу, не отпускает меня эта картина. Шалаш на берегу Исети. Белобрысый мальчик, примерно, моих лет восемь-девять, и сухонький старичок. Они жили в этом шалаше.
Было это в начале 50-х. Тогда все бедно жили. Ну, может быть, кроме начальника ОРСа (отдел рабочего снабжения). С сынишкой его мы вместе учились, жили в одном дворе. У него всегда была плитка шоколада. А я воровал из дома кусковой сахар и грыз обычно на уроках. Учительница доложила об этом матери, но вроде бы обошлось. Тоже неплохо. Отец работал инженером в ЖЭКе, мать где-то в сфере продовольствия, иногда приносила даже апельсины. Еще отец ходил на охоту. Зимой на лыжах. Намается, ведь с войны хромой, мы подлетаем: «Че убил?» «Ноги». Но, бывало, и приносил зайца. Как-то перебивались. В магазине все как будто было, по-моему, и черная икра. Покупать не на что, платили мало. А нас в семье трое детей, я — старший. Летом-осенью приносили домой перья зеленого лука, помидоры с полей. Из заброшенного сада таскали сладкие, подбитые морозцем ранетки. Картошку сами сажали. Так жили, не особо тужили. В поселке Чкаловском, город Каменск-Уральский. Кстати, здесь я через 30 лет, давно живя в Москве, отсиживал свой лагерный срок на зоне. Юмор судьбы. Или злорадство фортуны. Как еще назовешь?
А шалаш тот до сих пор стоит перед глазами. Такой нищеты, заброшенности я не видел. Дед с мальчиком одни в этом мире. То ли они боялись людей, то ли люди их не пускали в свой город.
Набрел я на них случайно. Шел от плотины по берегу, — рыбачил, что ли? И вижу на задворках хибар, за огородами шалашик на берегу. Худенький мальчик в каких-то лохмотьях. Он и пригласил меня отобедать. Дед внутри шалаша что-то разогревал, кажется, пек картошку. Налили в консервные банки какой-то бурды. У них даже ложки не было.
Как они здесь оказались? Откуда? «Мы тут живем», — сказал дед. Не помню, о чем говорили, да и говорили мы мало. Помню только светлые, добрые глаза старичка. Тихое угощение делового такого своего сверстника, он все мне что-то подкладывал, подливал. Нашел даже сухую горбушку хлеба — и мне. «А сам-то что?» «А нам много не надо». Тихо, спокойно так посидели. Ничего не просили, ни на что не жаловались. Просто были рады общению. И день был хороший, солнечный. И так мне уютно и мило было, как будто мы давно и хорошо знакомы. «Да, да», — поговаривал дед. И мальчик как брат. А я вроде бы высокий гость, из другого мира, из города. Тишь и благодать. Ни грубого слова, никаких пререканий между ними, никаких команд, Боже упаси, — глянут молча, и все ясно, каждый сам по себе и оба едины.
«Почему они так бедно живут?» — думал я. А спросить язык не поворачивался. Как бы ни оскорбить. Да еще, наверное, удивятся, мол, что надо, у нас имеется, а больше нам ничего не надо. И действительно, было ощущение, что им и так хорошо. И есть нечего, и делить нечего, и спорить не о чем. Что Бог послал. Ничего не послал? А как же: вот они друг с другом, душа в душу. Я даже не знал, в родстве ли они, дед ли с внуком или просто жизнь свела, да это было не важно, а важно было чувствовать, что они друг для друга и есть богатство. Да река, да день хороший. Да гость вот пришел. Чего еще надо? Живут как птицы. Чего-то наклюют и дальше пошли. Никому не должны и им никто не должен. Рады жизни — вот и весь сказ.
Ах, как не хотелось уходить от такой благодати! Город, дом, школа. Всем там чего-то надо, все чего-то требуют. Жизнь как лязгающая мясорубка. Толпы людей мешают друг другу. В этой кишащей массе никому нет покоя. Лезут, рвутся куда-то, обманывают, ссорятся. Каждый хочет выделиться, жить лучше других. Хотя бы и за счет других. До чего же все это нехорошо и противно по сравнению с миром этого шалашика.
И все же острая жалость резанула сердце. Впервые я испытывал такую сердечную боль и сгорал от стыда. Одинокие люди: мальчик и старичок. Светлые, добрые люди. Ничего-то у них нет: ни дома, ни еды, ни одежды. Несчастные. Неприкаянные. А вдруг дождь? А зимой куда? Я не знал, откуда они и что с ними будет дальше. Как они одолевают невзгоды. Жалко было до смерти. Я шел в свой город и обливался слезами.
Дома я рассказал отцу или матери. Кажется, их это нисколько не удивило. Может быть, они это видели, знают, что и так люди живут? Может быть, может быть. Ведь были и более трудные времена. И повидали они всякое, уж побольше, чем я. Жили мы и в Туркмении… Но дали булку хлеба, собрали котомку. На следующий день я принес это своим новым друзьям.