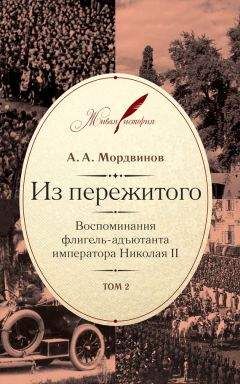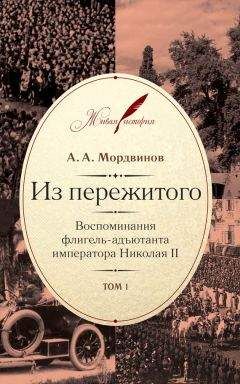Маленькая гостиничка-флигель в усадьбе Дома ветеранов сцены. В окнах тусклая Невка ловит редкие искры с обоих берегов. Ноябрьский вечер, но заслуженные батареи честно отдают тепло, у нас есть кипятильничек, есть индийский чай, лимон и пастила, пожалованная ветераном сцены славной Еленой Алексеевной Одоевской. Ее улыбка все еще пребывает на этой розовой пастиле. Кокетливый дырявый абажур набросил на нас уютную паутину. Настоящий бидермайер, он располагает к раздумчивому собеседованию, полному взаимной любезности. И не надобно никаких жгучих командировочных коньяков и громких яблок на закуску.
Тихо, скромно расходились все по каменным щелям. Пролетарии валились, свой приняв киндербальзам. Только скрип на звонкой суше, редко-редко мир нарушит писк нордических ледей — чутки каменные уши опустелых площадей.
Его фамилия Шевич, он главный режиссер одного из поволжских театров. Совсем немолод, брюхаст, с глубокими залысинами, курносый и губастый. Шевич заметно шепелявит. Все это по-своему гармонирует с его фамилией и напоминает об одном историко-литературном князе, сочинителе комедий. Он щипал актрис, то нежно, то сурово, и отважно сражался с самим Карамзиным.
Шевич — добродушный кающийся грешник, его согревает расположение даже такого молокососа, как я. Но грешник заслуженный, это видно по его тревожным глазам и привычке оглядываться на окна.
— От моего старого друга, театрального художника Визенталя, — бормочет он, — мне достался старый попугай. Серый попугай жако. Исай умер, одинокий, в захламленной квартире, и я забрал жакошку к себе. Его звали Пиня. И вот представьте себе, Володя, он встречает меня вечерами голосом Исая: кто пришел? Кого черт принес? Шевич-мевич, где ты был? Исая нет, и он есть — голос его хриплый, нетрезвый. Прошло с полгода, и вдруг Пиня заговорил моим голосом. Я его учил: быть или не быть? И еще: партия и Ленин — близнецы-братья. И про Исая Пиня забыл, как отрезало. И я понял, что Визенталь только через полгода умер окончательно. У вас бывали такие случаи, Володя?
— Нет, — отвечаю я, — что вы!
Мне смешно, что Шевич, из желания угодить, явно преувеличивает мою опытность. Нет, я не хоронил ни старых, ни юных друзей и попугаев видел разве что в кино («Пиастры! Пиастры!»).
— Давайте будем укладываться, — говорит Шевич, — взбивая подушку, — погода располагает. Спокойствие-то какое! Вы возьмите веревочку, если что — дергайте, не стесняйтесь!
Один конец веревочки привязан к большому пальцу его правой ноги. Во сне он громко, раскатисто храпит, и постояльцы во всех шести номерах флигеля уже обзавелись ватой. У меня, кроме ваты, наготове еще и вторая подушка — все-таки мне спать в одной комнате с ним и первому принимать удар. Но помогало это слабо, и я со вздохом привязываю свой конец шпагата на указательный палец и произвожу контрольный поддерг.
— Вы мне ногу оторвете, — умиляется Шевич, — полегче, Володя, я почувствую.
Завтра в рукописном отделе Публички мне вновь выдадут бумаги великого русского поэта и, закрыв глаза, я уже вижу их: строчки, осекаясь в перечеркиваниях, плывут корабликами, и кругом восклицательные знаки. В черновиках вдохновенный поэт был щедр на восклицательные знаки. В печати их повсеместно заменяли разумные точки.
Флигель заснул в полном молчании. Как ни удивительно, Шевич не разбудил нас ни разу. И поднявшийся ветер приятно углублял наш сон.
В полночь ветер взвыл, и валом море вздыбило Неву, раздались вовне каналы, воды в новую канву находили путь свой хищный, ширясь в ярости излишней. Ветер выл, как в чистом поле, над пучиною льдяной, с Петроградом охлажденным, с Петроградом омраченным он играл самодовольно, как с потешкою иной. Нет спасенья! Мглой одеты, уж сдаются парапеты, хлещут зыби через край. И шипят в земле скелеты между лиственничных свай. Уязвленный град Петра, доживешь ли до утра?
Раньше всех проснулись девочки из новосибирского кордебалета. Эти девочки с колоннадными ногами и непреклонными лицами «воспитанниц» первыми вышли на высокое каменное крыльцо и закричали мужскими голосами.
Прочие постояльцы, наскоро накидывая одежду, отрываясь от кранов с мертвой холодной водой, выбегали на крыльцо и разделяли их ужас. Сегодня ни в Мариинку, ни в публичную библиотеку, ни в любой другой храм высокой культуры мы не попадали.
В сером сумраке, под порывами ветра по всей усадьбе и за ее решетками стояла вода. В Доме ветеранов сцены горели все окна: старики поднимались рано, весть о потопе молниеносно разнеслась по особняку, и силуэты заслуженных жрецов Мельпомены упирались в оконные переплеты.
Вода стояла вровень с крыльцом, целиком залив ступени. Это означало, что ее прибыло на метр, не меньше. Вид ее был неприветлив, по ней пробегали язвительные, тонкие волны и расходились таинственные пузыри.
На стене, справа от входа висела латунная табличка, она представляла собой отметку ординара: на этот уровень, до середины наших окон, поднималась вода достопамятного 7 ноября 1824 года.
— А что? И такое может быть, — сказал молодой армянин из соседнего номера, — тогда полезем на чердак.
Он проживал здесь на сомнительных правах, не имея отношения к театру, но имея его к завхозу Дома. Шевич упоминал, что он начальник чулочного цеха швейной фабрики в городе Ленинакане. Поэтому он высказался очень буднично.
— Вам не кажется, что где-то бьет барабан? — рисуясь, сказала остроносая дама из Мурманска.
— Ага, — сказал черноглазый вологжанин, — на Марсовом поле. Кутузова хоронят.
— Глупый юмор, — возразила мурманчанка.
Мы толпились на крыльце, потом мы толпились в общем зале, куда выходили все двери наших номеров, и трясли в руках ключи.
Нас оказалось неожиданно много: пятнадцать человек, испуганных или разочарованных потерей драгоценного рабочего дня в северной Пальмире. Пять девочек из кордебалета, два чулочника из Армении, три актера из Архангельска, Вологды и Петрозаводска, помощник режиссера из Мурманска, хранитель музея-усадьбы из Щелыкова, мы с Шевичем, и махонький дедушка в зеленоватой седине, скрывающий любые свои анкетные данные: зачем вам знать?
Мы познакомимся в течение этого долгого темного дня, а пока мы переминались напротив друг друга.
— Здесь я точно бедная букашка, занесенная в озеро бурей, — процитировал Шевич. Иные режиссеры читали А. С. Пушкина.
Шевич один из всех выглядел безмятежным, почти довольным. Это было подозрительно.
Кто-то включил радио: город затопило, оказывается, клочками, но усердно, вода поднялась по всей невской дельте. Дворцовая набережная держалась до последнего. Радио не обещало ничего хорошего и ничего плохого. Где-то протирали очки ответственные люди, они не знали, что будет через час.
— Да что же мы время попусту тратим, — сказал архангелогородец, — братья-славяне и другие наши братья!
И вынес из номера бутылку водки. Шевич с веселыми причитаниями вынес бутылку поддельного польского коньяка «Камю», чулочники триумфально вынесли три бутылки настоящего армянского коньяка, а к ним кислый сыр и сушенное пряное мясо в тысяче кусочков. Мы сдвинули оба стола в зале и притащили стулья, они трещали под нами, как хворост. Пять девочек из кордебалета уселись первыми, и от такого доброго знака лица актеров просветлели, они потерли свои испытанные руки.
— В прошлом году я побывал в Италии, — сказал Шевич, — странная страна! Там итальянцы одеваются, как боги, нам не снилось, как. И — поголовно нищие. Ночью выглянул из окна отеля, вижу: подо мной рота итальянцев в шикарной одежде шарится по помойке! Где, спрашивается, римское достоинство?
— Это они экономят, я знаю, — сказал хранитель из Щелыкова, — у них лира тощая.
Когда после обеда к крыльцу причалила обычная деревенская лодка с завхозом и горячими пирожками с печенью, флигель был прокурен насквозь, а в зале, где столы перекочевали в угол, девочки из кордебалета пытались исполнить «Танец маленьких лебедей». Пространства, конечно, не хватало, и попытка за попыткой заканчивались грохотом падающих стульев и стонами пирующих, придавленных удалыми балеринами.
Рассвело. Над жалким градом колокольчик дарвалдал, ознобленный влажным хладом, трепетал и пропадал. Но стоял под облаками мерный, нервный, скверный гул, и в плакатах над стогнами красный их кумач заснул. Доложили утром сводку: может быть такой компот, что балтийская селедка по Дворцовой поплывет. Что смущаться да гадать? Пропадать так пропадать! Она будет плыть, а мы будем пить!
Завхоз Феликс Феликсович открыл настежь окна, раздал нам по два пирожка и велел расходиться по номерам. Напрасно актеры подпускали шепотом амуров балеринам, просясь к ним в гости. Под укоризненным взглядом хозяина кариатиды никли. Им дорога была карьера. И перепившие актеры были неприятны девушкам тем, что алкоголь победил в них навыки классического, благородного флирта.
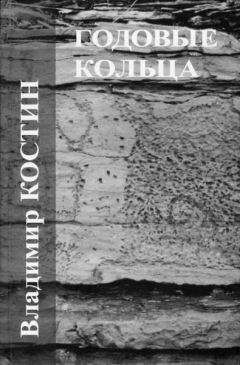
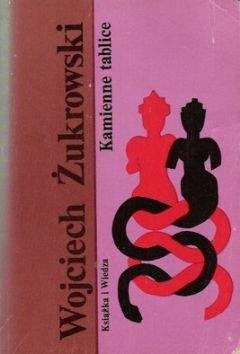
![Харлан Эллисон - В землях опустелых [В краю чужом; В краю уединённом]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)