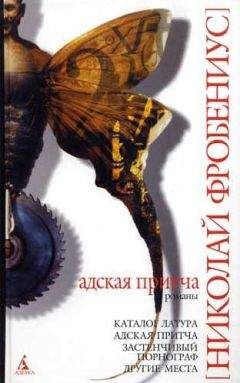Смоляночка
Или Любовница поручика Киже
Роман ….
День нехорошо начинался.
Как только экипаж выехал за ворота Михайловского замка, пересек мост и свернул на Малую Караульную, какой то пожилой человек, судя по шляпе и по мундиру из небогатых отставных офицеров, вдруг кинулся к карете, и рискуя быть раздавленным большим задним её колесом, схватился за край открытого по жаре окошка и буквально повиснув на двигавшемся экипаже, принялся кричать, – убийца, убийца, убийца. Гореть тебе не каянной, убийца…
Лакей и форейтор оттолкнули человека. Он упал в пыль. Поднялся и еще долго кричал вслед удаляющемуся экипажу, – убийца, гореть тебе…
– Кто это? – спросила Даша.
– Это отец подпоручика Машкова, – отвечала Зинаида, – слыхали? Он умер вчера в полковом лазарете. Три дня мучился. Две сквозных раны – одна в грудь, вторая в живот. Говорят, все вас звал к себе…
Даша промолчала.
Подпоручик Машков дрался третьего дня. С Володей. С Володенькой. И был ранен.
Теперь вот умер – Царствие ему Небесное.
Даша перекрестилась.
И что из того, что из-за нее?
Она этому Машкову повода не давала…
Хотя…
А если и давала?
Дело мужское.
Дворянское.
Офицерское… …
Девушка выросла без отца. Никогда не видела его.
– Ты из каких же будешь? – спросил государь, взяв Дашу за подбородок и приподняв ее личико, – из "Александровских" или из "Николаевских"?
– Сирота, Ваше императорское высочество, – за девушку ответила классная дама, – дочь убитого в турецкой компании бригадира Азарова, на казенный счет содержится.
– А чтож сама то отвечать своему государю не могла? – с улыбкой спросил Павел, все еще держа Дашин подбородок, – pouvre de petite, tu as peur, moi Je n as pas mechante…
– Жалуем девицу Азарову "шифром"*, – распорядился Павел, выходя из Смольного и садясь в экипаж.
Дежурный генерал-адъютант кивнул и щелкнул каблуками.
В субботу Даша – в новом платье и с усыпанным бриллиантами вензелем "П" на плечике, впервые вышла в государеву гостиную…
Там и встретила Володю своего… Семеновцы тот день дежурили по дворцу…
А потом он в воскресенье в церкви к ней подошел.
Во время литургии…
Когда "Верую" пели, она вдруг услыхала его сильный приятно-волнующий ее баритон.
И потом дыхание его на шейке на своей почувствовала.
Но не оборачивалась.
И ждала.
Ждала, покуда перед "Святая Святых" вновь запоют всем Миром…
Она была готова начать обожать его.
Сделать его своим кумиром.
Ведь в правилах девочек-смолянок было обожать кого-либо. Сильно-сильно обожать.
А если у девочки не было отца, если она не знала его, то это пустующее, незаполненное обожанием отцовское место должно было быть заполнено кем-то другим.
Сиротка-смолянка из "Николаевских", была способна к обожанию гораздо сильней, чем "Александровские"**…
И Даша влюбилась.
Потеряв всякий ум… … •*Шифр – императорский вензель, означающий фрейлину. •** Николаевские и Александровские – группы смолянок – одни содержались на счет состоятельных родителей, другие – сироты, содержались на счет казны. ….
Это модное в придворных кругах словечко – бесило Машкова. "Махаться"… Фу!
Какое противное, какое отвратительное это слово!
И особенно неприятно будоражило Машкова, когда дама… Когда девица позволяла себе сказать в разговоре, томно обмахивая себя веером и кривя губки, – поручик Забродский? И Дашка Азарова? Да они уже давно махаются? А вы и не знали? Об этом все знают, что они махаются.
Это было так отвратительно грубо… Разве можно об этом так? Когда это касается ее – такой нежной, такой облачно воздушной девушки – Даши Азаровой.
Даши Азаровой, о которой можно и нужно говорить только восторженно, как в одах господина Державина.
И непонятно было самому Машкову, кого он ненавидел больше – счастливого своего соперника Владимира Забродского, или эту девицу – маленькую княжну Астафьеву, что манерно кривя губки говорила, – разве вы не знаете, Машков, что Азарова с Забродским уже два месяца махаются? Что они любовники? Разве вам это не известно?
Весь свет знает!
Это слово казалось Машкову стыдным.
Оно унижало Дашу.
Оно как бы говорило, что его облачно-воздушная Даша как бы участвует в каком-то унизительном для нее процессе, как бы вовлечена в какое то стыдное и ненужное и гнетущее ее дело – махаться с поручиком Забродским.
Машков шел в сторону гауптвахты полностью погруженный в невеселые мысли.
Он представлял себе, как в те ночи, когда Семеновцы несли караул по дворцу, Забродский выходил из караульной залы, выходил на земляной вал и подойдя к окну комнатки фрейлены Азаровой, тоненько свистел или бросал в окошко камешек… А потом… А потом они делали это… Они махались. Они махались, они махались…
– Машков! – оклик вывел подпоручика из мечтательного оцепенения, – Машков, мы нынче у Дончанских талию затеваем, вино будет отменное, итальянский купец на Неве стоит, дюжина бутылок к игре будет, придешь?
– Приду, буркнул Машков.
Пообещал и тут же пожалел об обещании.
У Дончанских Забродский будет непременно. А Машкову неприятно… Даже не не приятно, а противно было подумать. Ведть они с Дашей, с его облачно-воздушной Дашей – махаются… ….
Драться назначили наутро.
На пять утра.
На Песках. На Невском берегу, за кустами, там кроме финского рыбака, что в лодке своей сетью корюшку ловит, иных свидетелей не бывает.
Сколько раз тут уже Семеновцы дрались!
Забродский с Тауфенбергом и с Дончанским приехали верхом на лошадях.
Самоуверенный Забродский. Он не думает, что его может ранят, что надо будет на коляске в лазарет…
Секунданты Машкова – Лукин и Гофман пошли совещаться с секундантами Забродского.
Недолго совещались.
Машков даже озябнуть не успел.
Он стоял отвернувшись к в сторону Невы, чтобы даже краешком глаза не видеть ненавистного поручика. Ненавистного махальщика…
– Начинайте, господа!
– Ну, с Богом!
Машков скинул камзол, оставшись в тонкой белой рубашке не по осеннему утреннему холодку…
Забродский тоже скинул камзол и тоже остался в белой рубахе.
Однако тонкие итальянские рубахи носит Забродский.
Дорогие.
По двенадцати рублей за пару.
И Даша…
Наверное любит расстегивать пуговички на этой – такой дорогой и тонкой его рубахе.
Встали в позицию.
Отсалютовали.
Ну!
Началось.
Первый звон стали о сталь.
И Забродский с его презрительной усмешкой на губах.
Стройный.
Белая тонкая рубаха заправлена в лосины, подпоясанные кушаком.
И белый парик на голове с уставной – по последнему Семеновскому уставу короткой косичкой.
Выпад, укол.
Еще выпад, еще укол.
Туше!
И больно под правым ребром и ниже в животе.
И голова пошла кругом.
И тупой удар затылком о землю
И серое финское небо вверху.
– Машков? Машков?
– Ну что? Убит?
– Подводу, подводу давайте, в лазарет его, в лазарет…
– Махаются, – подумал Машков. – они махаются…
Подумал и провалился в забытье. …
В которой маленькая Дашутка Азарова от просвещенных своих подружек узнаёт, что означает слово "махаться"…
Мадмуазедь Бэжо бежала из Франции от этого, как она его называла, terrible monster, от Наполеона Бонапарта, и желая обрести здесь в Павловской России душевный покой и спокойствие, подальше от революций, от гильотин, от простолюдинов в мгновение ока ставших маршалами Франции, здесь, на новой родине она теперь ревностно выискивала крамолу. Везде. И прежде всего в спальнях своих воспитанниц.
Маленькие гадкие девчонки, – на своем картавом южно-западном, отнюдь не парижском французском, кричала мадмуазель Бежо, – я еще раз спрашиваю, чья эта гадкая книжонка?
Сегодня утром, покуда девочки были в церкви, освобожденная от посещений православной службы католичка мадмуазель Бежо, как всегда рыскала по спальным комнатам… И вот нашла. Вольтера.
Вольтера со срамными стихами о Жанне Дарк, где та вступает в плотское соитие…
Боже! И не просто в плотское соитие, но с конем. Со своим конем!
Je me repet une foi encore, – кричала мадмуазель Бежо, потрясая в воздухе найденным фолиантом, – de qui est set livre?* * чья это книга?
Мадмуазель Бежо вся раскраснелась и даже пошла пятнами от гнева, красными пятнами, что рассыпались по ее щекам и открытой шее, контрастируя с напудренными буклями, словно красные снегири на белом снегу.
Мадмуазель Бежо уверенно полагала, что чтение книжек, где описываются половые акты, будь то арабские сказки, античные произведения или современная проза, не просто вредят нравственному воспитанию девочек-смолянок, но растят из них скрытых до поры чудовищ, вроде Шарлоты Конде. Мадмуазель Бежо думала, что если сегодня тринадцатилетняя девочка читает Вольтера и Апулея, в свои шестнадцать она будет морально готова отравить своего царя.