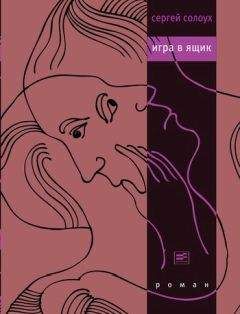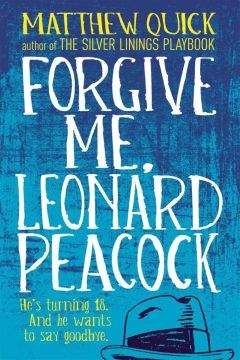“Kerýho Ferdinanda, paní Müllerová?” otázal se Švejk, nepřestávaje si masírovat kolena, “já znám dva Ferdinandy”.
Jaroslav Hašek‘Do you say these things simply to depress me, Frank?’
‘No, Uncle, simply to cheer myself up.’
Evelyn WaughЛегкое косоглазие, небольшой перекос черных пуговок – признак настоящего математика. Природную общечеловеческую симметрию портит редкая способность к необыкновенной и долгой концентрации мысли. Полное и абсолютное погружение в предмет анализа. Ноги, как правило, не могут воспользоваться таким счастливым моментом неподотчетности, свободы от мелочной опеки головы, а вот глаза – всегда пожалуйста. Разъезжаются, правый на запад к уху, а левый... а левый вот ни черта. Пока сосед-черныш на той стороне переносицы ворует свои миллиметры и наслаждается потерей фокуса, левый все делает наоборот. Не просто холоден и неподвижен, а даже на быстрые изменения освещенности, смену света и тени, отказывается реагировать. Не хочет сжиматься и разжиматься. В зеленоватом колечке ореола стоит большой и черный в самом центре белого и ничего, совершенно ничего не видит.
Другое дело, стоила ли собственно картина зрительного усилия. За стеклом, прямо перед несвязанными, своевольными зрачками аспиранта Института проблем угля Романа Подцепы лежал в лучах ленивого августовского рассвета обыкновенный подмосковный город. Миляжково. Как и все ему подобные, вроде Орехово-Зуево или Подольска, что возникли в границах распространения паровозной сажи по обе стороны колеи восточных или южных императорских железных дорог во второй половине девятнадцатого века, Миляжково и в конце двадцатого оставалось маловразумительным придорожным образованием. Расположение и направление улиц определяли тут заборы складов, заводов и депо, а перспективу замыкали трубы котельных и теплоцентралей. И даже в полном надежд и нежности начале летнего шестого часа утра, с высоты девятого этажа из окна вычислительного центра ничего не удавалось высмотреть мерцающего, загадочного или манящего между быстро выступающими из миляжковских ночных глубин углами. Стенами из серого кирпича и крышами из серого шифера. Определенно, птичья дальнозоркость в этом месте душу не возвышала и не грела. Но, впрочем, и человеческая близорукость с ее благородной вогнутостью линз не добавляла волшебных черт картине мира. Прямо под ногами Романа Романовича уныло расстилалась безжизненная и бесцветная в этот час территория Института проблем угля им. Б. Б. Подпрыгина. Уменьшенная копия породившего ее населенного пункта. К высокой ограде режимного института жались похожие на дровяные лабазы сараи послевоенных испытательных стендов. Чуть дальше, словно куски от ветхости распавшегося времени, на узкой площадке для металлолома уныло громоздились и друг в друга тыкались старозаветные забойные машины. Техника большого прорыва и шести условий. Огород Стаханова. И уже совсем рядом, в непосредственной близости от нового девятиэтажного длинным и кривоватым рукавом невидимого пальто растянулся старый, приземистый корпус экспериментального завода. Вместо пятерни, справа за асфальтовой лентой узкого внутридворового проезда, один за всех тупо дырявил небо единственный упрямый палец. Труба котельной. Все это механическое, серое и черствое. Даже тени внештатных сторожевых дворняг, полночной комариной своры, хозяев институтского двора, и те как-то беззвучно рассосались в стылом растворе мертвого часа.
Зато на другой, одушевленной и освещенной стороне мира, за спиной Романа Романовича Подцепы черной живой тенью колыхался дежурный электронщик Слава Соловейкин. Правда, его отрывисто и часто дышавшее тело совершенно не гармонировало и не сочеталось с неподвижной фигурой аспиранта, примерзшего дозорным к витринному переплету кругового остекления девятого этажа. В то время как Подцепа, весь обратившись в слух, отслеживал на раз-два-три-четыре связь между сглатываньем очередной перфокарты из быстро тающей колоды и скорой, как правило серийной, отрыжкой печатающего устройства, Соловейкин за спиной Романа маялся, весь обратившись в шум и трепет, а также отчасти в свет, тепло и запах. Слава нарезал круги вокруг прямоугольной тумбы устройства для размножения все тех же самых перфокарт. Весьма солидного на вид шкафчика, крайне редко применявшегося по назначению, возможно в первую очередь из-за пугающего весь персонал ВЦ жуткого прозвища «бармалей». Однако в тусклом, серебряном шестом часу августовского утра этот грозный агрегат охотно служил всего лишь навсего подставкой для мелкого рыбацкого стаканчика, примерно на одну треть наполненного голубоватыми слезами штатного технического спирта. Денатурата. Слеза просилась прямо в Славу, и Славин глаз ее хотел, но сердце в организме трепетало, желудок поднимался к горлу, а пищевод стыдливо, но решительно перекрывал и вход, и выход. Ночная смена неумолимо шла к концу, все меньше шансов оставляя Соловейкину на человеческое ее завершение. С полным вытиранием из души и памяти всех мерзостей дежурных обид и унижений.
Между тем, вчера в теплом черничном морсике начала ночи к новому корпусу экспериментального завода, на девятом этаже которого располагался институтский вычислительный центр со всеми своими службами, от соразмерного машзалу участка приточно-климатической установки до сплюснутой со всех сторон унылой перфораторской, оба, и Слава Соловейкин, и Роман Романович Подцепа, шли в самом лучшем расположении духа, в предвкушении насыщенных и плодотворных восьми часов. С двадцати трех до семи ноль-ноль.
Сама по себе ночная смена уже была большой победой Романа Романовича. Очень приятного, несмотря даже на легкое ученое несхождение зрачков и общую косолапую, медвежью грацию, молодого человека, которого в его двадцать пять лет по имени-отчеству не звал решительно никто, кроме, может быть, самого Романа Романовича, да и то в веселую минуту и исключительно про себя. Ночная смена, на незатейливой машинке единой серии с четным номером, но нечетной суммой цифр – 1022, восемь часов безраздельного и непрерывного владения всеми ресурсами этого скромного аппарата, способного под DOS/ES, как барышня-крестьянка из повести в стихах, принадлежать и отдаваться одновременно лишь одному и больше никому, стоила месяца, а то и двух, расписанных, уложенных, расчесанных на тонкие проборчики часов или даже минут. Три волоска на лысине. «Сектор мат. методов. Подцепа. 13:45 – 14:30». И вот уже в 14:25, когда для счастья, ну или как минимум законченного результата расчета варианта нужен всего лишь таракан каких-то десяти или двенадцати минут, является угрюмый «Лаб. разрушения породы. Гитман. 14:30 – 16:00», чтобы ногами затоптать надежду в любой форме, а горбатой спиной буквально и натурально закрыть любую щелку между перфокартным и перфолентным вводом. Ровно в полчаса он кивнет головой, и дежурный оператор пустит ежа, отщелкает три заглавных буковки на желтой ленте «Консула» – End Of Job – и все, свободен, Роман Романович. Повесть с прологом на языке FORTRAN, с завязкой распределения памяти и параметрами запущенного варианта, но без эпилога псевдографики, точек и звездочек нагрузки на широких листах бумаги с аккуратными линейками круглых дырочек на месте правого и левого полей, можно забрать на память из широкой корзины АЦПУ – алфавитно-цифрового печатающего устройства. Ну или для дела. Что может быть лучше для черновиков, быстрых расчетов или рисунков вольного содержания, этих финских биатлонных просторов обратной стороны ненужной цэпэушной распечатки? В общаге, случалась, выпрашивали. Вещь. И Роман Подцепа отдавал. Он не был особенно жаден. Но вот ночной сменой ни с кем и никогда не поделился бы.
Уменье выбить ночную – целое искусство. Служебную записку директору ИПУ им. Б. Б. Подпрыгина составлял сам Алексей Левенбук, правая рука профессора Прохорова, заведующего отделением, а заодно и научного руководителя Р. Р. Подцепы, – на вид неразговорчивый и неулыбчивый кандидат технических наук с практически уже готовой докторской, которого в неполных тридцать пять все, кроме Прохорова, звали как безусловно старшего по званию, Алексеем Леопольдовичем. Несмотря на внешнюю угрюмость и замкнутость, это был весьма дельный, доброжелательный и в своем кругу понятный человек, с удивительной ловкостью и легкостью, казалось, часто вообще без слов, каким-то кивком, покашливанием или пожатием нужной руки решавший те самые назойливые оргвопросы, что так тяготили своей навязчивостью и неизбывностью профессора Михаила Васильевича Прохорова. Левенбук не только составил нужную служебную, но и договорился с упрямым и неотзывчивым начальником ВЦ. Этот мужчина по фамилии Студенич, который возбуждался только от вида заградительных сетей, да и то лишь двух типов – рыболовной или волейбольной, был главным и решительным противником какой бы то ни было сверхурочной работы вверенного ему подразделения.