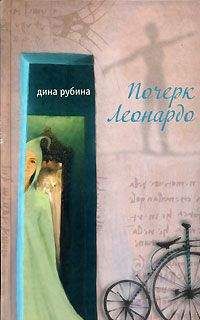Дина Рубина
Почерк Леонардо
Лине Никольской – воздушному канатоходцу
И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до восхода зари.
Бытие 32:25–26
Итак, пусть никто не ожидает, что мы будем что-либо говорить об ангелах.[1]
Бенедикт Спиноза. О человеческой душе
Леворукость имеет атавистический и дегенеративный характер… Нередко встречается у сумасшедших, преступников и, наконец, у гениев.[2]
Чезаре Ломброзо
Звонок был настырным, долгим, как паровозный гудок: межгород.
Телефон стоял в прихожей под большим овальным зеркалом, и когда звонила мужнина родня, Маше казалось, что зеркало сотрясается, как от проходящего поезда, и вот-вот упадет.
Казенный плоский голос: ждите, Мариуполь на проводе. По голосам их, что ли, на работу принимают?
Звонила Тамара, двоюродная сестра мужа.
Обычно она поздравляла с Новым годом или сообщала о смерти очередной тетки – у Анатолия в Мариуполе был целый хоровод престарелой родни.
Маша хотела сразу же передать ему трубку, но Тамара сказала:
– Постой-ка, Маш, я ведь именно что к тебе…
И смущенной скороговоркой сообщила, что после неудачной операции аппендицита в Ейске померла племянница тети Лиды. Вот.
– Это какой же тети Лиды?
– Да видала ты ее, и племянницу видала на моей свадьбе. Тетя Лида-покойница, она не нам приходится родней, а со стороны…
Ну, пошло-поехало… Короче, с той, другой стороны, не мариупольской, а ейской.
Маша давно уже оставила многолетние попытки запомнить все родственные связи изобильной мужниной родни.
– …и, слышь, племянница-то померла, но от нее осталась девчоночка трех лет.
– Ну и что?
А то, явно волнуясь, торопливо рассказывала Тамара, что эту девочку никто из ихней родни брать не хочет, хотя родня очень даж зажиточная: двоюродная сестра покойницы сама зубной техник, дом – полная чаша…
Живые с покойниками в той родне дружно шагали рука об руку из рода в род, весело перекликаясь и переругиваясь, доспоривая, допевая песню и допивая шкалик.
Странно, что никто из той родни так-таки и не хочет взять этого ребенка.
Маша стиснула зубы. Не горячись, сказала она себе, никто не собирался тебя обидеть, никому дела нет до твоей боли.
– Томка… – наконец сказала она спокойно. – Ты мне все это зачем говоришь?
Та замялась. В трубке шумел равнодушный прибой чьих-то гулких голосов, и Маша вдруг поняла, что ради этого разговора Тамара явилась на телеграф, выстояла очередь к кабине…
– Ну, может, вы подумаете, Маш… – словно бы извиняясь, проговорила та. – Все же у вас детей нет, может, это шанс? Как ни крути, а тебе уже… тридцать шесть?
– Тридцать четыре, – оборвала Маша. – И я надежды не теряю. Я лечусь.
– Ну, как знаешь… – Тамара сразу сникла, потеряла интерес к разговору. – Так ты и телефона не запишешь, бабы этой, дантистки? На всякий случай?
И Маша зачем-то записала, чтобы не обижать Томку, – ведь хорошего хочет, дурында этакая.
Все у них просто, у этих мариупольских коров с полными выменами…
Она опустила трубку и подняла голову. Из овального, в резной черной раме зеркала на нее внимательно смотрела еще молодая женщина с подвижным, усыпанным обаятельной веснушчатой крупкой лицом. За спиной у нее, в проеме открытой в спальню двери виден был отдыхающий после дежурства муж. Его босая ступня покачивалась маятником в такт то ли мыслям, то ли мотивчику, напеваемому беззвучно. Лицо заслонено ставнем раскрытой книжки, название и автор опрокинуты в зеркалье – прочесть невозможно.
Далее перспектива зеркала являла окно, где тревожно металась на ветру усыпанная белыми «свечками» крона киевского каштана. А выше и глубже поднималась голубизна небесной пустоты, то есть отражение сливалось со своим производным, истаивало в небытии…
Вдруг ее испугало это.
Что? – спросила она себя, прислушиваясь к невнятному, но очень острому страху. Что со мной? Этот страх перед услужливо распахнутой бездной – почему он связан с привычным отражением в домашнем зеркале?
Всю ночь Маша не спала, дважды поднималась накапать себе валерьянки. Толя молчал, хотя она слышала, что и он ворочался до рассвета.
Ровно год назад у них после многолетних медицинских мытарств родился крупный, красивый мертвый мальчик.
Наутро после разговора с Мариуполем Маша дождалась, когда за мужем захлопнется входная дверь, и набрала номер телефона этой странной женщины, которая не могла или не хотела пригреть племянницу-сиротку.
И все сложилось: и дозвонилась быстро, и женщина оказалась на месте, и слышно было фантастически ясно. И разговор произошел мгновенный, отрывистый и исчерпывающий, словно судьба торопилась пролистнуть страницу с незначительным текстом.
Выслушав первую же Машину фразу, та сказала:
– Вы эту девочку не возьмете. Она невообразимо худа.
– Что это значит? – спросила Маша. – Она больна?
– Говорю вам, вы эту девочку не возьмете. Вы просто испугаетесь.
– А… где она сейчас? Кто за ней смотрит?
– Там соседка душевная, с покойной Ритой дружила. Она хлопочет насчет… определить девочку… в учреждение.
– Адрес! – тяжело дыша, сказала Маша. Та продиктовала.
Маша молча опустила трубку.
Днем Толя позвонил из госпиталя, сказал, что есть два билета на Райкина, – пойдем?
– Что-то не хочется…
И весь вечер была сама не своя. Зачем-то села перебирать документы. Тихо сидела, задумчиво, как пасьянс, раскладывая аттестаты зрелости, дипломы, свидетельство о браке. Письма, которые писал ей Толя еще студентом Военной медицинской академии.
Перед сном он вышел из ванной, посмотрел на жену, зябко ссутуленную над цветными картонками документов, подобравшую под стул ноги в мягких тапочках. Маша подняла голову, улыбнулась виновато.
Он вздохнул и сказал:
– Ну, поезжай, разберись… Тебе ее воспитывать.
* * *
До Ейска Маша добралась на поезде удобно, с одной всего пересадкой, но когда разыскала нужный адрес по Шоссейной улице, оказалось, что девочка уехала с детским домом на летнюю дачу.
Пристроила ее та самая душевная соседка Шура, она из года в год работала хлеборезчицей на летних детдомовских дачах. Да ты сама посуди: неуж не выгодно: и харчи казенные, и воздух морской, и получка цельная остается. Все это Маша выяснила за десять минут у двух старух, словоохотливых обитательниц вечной околоподъездной лавочки.
– Шура-то прям извелася вся, испереживалася: не есть ребенок, хоть ты тресни, будто ее на ключ замкнули. Може, там, с детьми отойдеть? А то как бы не истаяла вовсе…
– А что отец, – спросила Маша. – Он вообще имеет место?
– О-он? Он место име-е-еть… – подхватила старуха. – На нарах он место имееть, добре место. Плацкарту бесплатну.
И вторая раскудахталась над этой шуткой и долго, взахлеб, смеялась, отирая ладонью рот и повторяя:
– Эт точно, на нарах он место имееть, эт точно!
Маша добралась до автовокзала и купила билет, как соседки научили: до станицы Должанской.
…Летняя дача детского дома размещалась в четырехэтажном корпусе бывшего санатория то ли металлургической, то ли текстильной промышленности. Года четыре уже как здание передали Минздраву, и после ремонта перевели туда детский санаторий. Так что сюда привозят детей с церебральным параличом. И, знаете, неплохо подлечивают. А один из корпусов сдают детским домам под дачу.
Попутно с этими сведениями Маше пришлось выслушать некоторые факты биографии представительного дяденьки в полосатой пижаме. Мои жизнь и борьба в сборочном цеху тракторного завода.
Он причалил невзначай, пока она гуляла, пережидая тихий час, – вернее, металась вдоль каменного парапета набережной, – и все толокся и толокся рядом, не чуя тяжелого ее волнения.
Началось с того, что она никак не могла разыскать Шуру, душевную соседку, – ту самую, что пристроила ребенка на дачу. Машу посылали с одного этажа на другой, и повсюду Шуру «вот только что видели», потом – «за продуктами, видать, уехала…», пока одна из раздатчиц в пустой столовой, с подробным интересом изучив Машу с головы до босоножек, не сказала:
– А Шура, это… ваще…
– Что – вообще?
– Так это… отгулы она взяла. Зубы драть. Кроме того, директриса, с которой только и можно было говорить о девочке, отлучилась утром в Ейск и вернуться должна была к четырем.
Маша вышла к набережной, залитой июньским солнцем.
Длинные белые пляжи благодатной косы были пересыпаны курортниками в цветных купальных костюмах. Во влажном, еще не выкаленном солнцем воздухе всплескивали звонкие выкрики и шлепки волейболистов: ребята играли поверх дырявой провисшей сетки. Кто-то из игроков с тупым стуком послал в воду такой мощный крученый мяч, что загорелая девушка в синем купальнике восторженно завизжала и бросилась за ним… Несколько бесконечных секунд мяч стоял в небе, вращаясь посреди барашковой зыби голубоватых облаков, и бесконечно долго, увязая в песке, бежала к нему девушка… пока он не стал обреченно падать, падать, убился о мокрый песок в шаге от воды, мертво качнулся туда-сюда и замер.