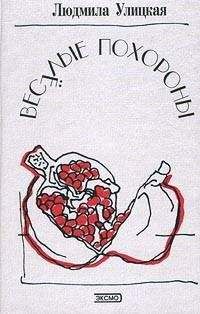Людмила Улицкая
Веселые похороны
(Москва — Калуга — Лос-Анжелос)
Жара стояла страшная, влажность стопроцентная. Казалось, весь громадный город, с его нечеловеческими домами, чудесными парками, разноцветными людьми и собаками, подошел к границе фазового перехода и вот-вот полужидкие люди поплывут в бульонном воздухе.
Душ был все время занят: ходили туда по очереди. Одежду давно уже не надевали, только Валентина не снимала лифчика, потому что если отпустить ее огромную грудь болтаться на свободе, то от жары под ней образовывались опрелости. В обычную погоду она лифчиков никогда не носила. Все были мокрыми, вода с тел не испарялась, полотенца не сохли, а волосы можно было высушить только феном.
Жалюзи были полуоткрыты, свет падал полосатыми прядями. Кондиционер не работал уже несколько лет.
Баб в комнате было пять. Валентина в красном бюстгальтере. Нинка в длинных волосах и золотом кресте, исхудавшая так, что Алик ей сказал:
— Нинка, ты стала как корзинка. Для змей.
Корзинка эта стояла тут же, в углу. Алик когда-то по молодости лет ездил в Индию за древней мудростью, но ничего не привез, кроме этой корзинки.
Еще была соседка Джойка, прибившаяся к дому дурная итальянка, нашедшая себе столь странное место для изучения русского языка. Она все время на кого-нибудь обижалась, но, поскольку ее замысловатых обид никто не замечал, ей приходилось всех великодушно прощать.
Ирина Пирсон, в прошлом цирковая акробатка, а ныне дорогостоящий адвокат, сверкала художественно подбритым лобком и совершенно новой грудью, сделанной не знающими колебаний американскими хирургами ничуть не хуже старой, и ее дочка Майка, по прозвищу Тишорт, пятнадцатилетняя, неопределенно-толстенькая, в очках и единственная из всех прикрытая одеждой, сидела на корточках в углу. На ней были толстые бермуды и, соответственно, майка. На майке была нарисована электрическая лампочка и люминесцентная надпись на неизвестно каком языке: «ПIZДЕЦ!» Это Алик сделал ей ко дню рождения в прошлом году, когда его руки еще кое-как двигались…
Сам Алик лежал на широкой тахте, такой маленький и такой молодой, как будто сын самого себя. Но детей как раз у них с Нинкой не было. И ясно, что уже не будет. Потому что Алик умирал. Какой-то медленный паралич доедал последние остатки его мускулатуры. Руки и ноги его лежали смиренно и неодушевленно и даже на ощупь были не живыми и не мертвыми, а подозрительно промежуточными, как застывающий гипс. Самым живым в нем были волосы, рыжие, праздничные, густой щеткой вперед, да раскидистые усы, которые стали великоваты его исхудавшему лицу.
Вот уже две недели, как он был дома. Сказал врачам, что не хочет умирать в больнице. Были и еще причины, о которых они не знали и знать не должны были.
Хотя даже врачи в этой скоростной, как забегаловка, больнице, которые в лицо больным заглянуть не успевали, а смотрели только в рот, в задницу или у кого там что болит, его полюбили.
А дома у них был проходной двор. Толпились с утра до ночи, и на ночь непременно кто-то оставался. Помещение здесь было для приемов отличное, а для нормальной жизни — невозможное: лофт, переоборудованный склад с отсеченным торцом, в который была загнана крошечная кухня, сортир с душем и узкая спальня с куском окна. И огромная, в два света, мастерская.
В углу, на ковре, ночевали поздние гости и случайные люди. Иногда человек пять. Собственно двери в квартиру не было, вход был прямо из грузового лифта, поднимавшего сюда, до въезда Алика, кипы табака, призрачно присутствовавшего здесь и по сей день. Въехал Алик давно, чуть ли не двадцать лет тому назад, подписал не глядя какой-то контракт, как потом оказалось, страшно выгодный. И по сей день Алик платил за квартиру сущую ерунду. Впрочем, платил не он. Денег у него давно никаких не было — и ерунды даже.
Щелкнул лифт. Вошел Фима Грубер, стаскивая с себя на ходу простецкую голубую рубашку. Внимания на него голые женщины не обратили, да и он глазом не повел. При нем был докторский саквояж, старинный, дедовский, привезенный из Харькова. Фима был врач в третьем колене, широко образованный и оригинальный, но дела его складывались не блестящим образом, здешних экзаменов он еще не сдал и работал временно, уже пятый год, чем-то вроде квалифицированного лаборанта в дорогой клинике. Он заезжал каждый день, как будто надеясь, что ему повезет и он окажется Алику чем-нибудь полезным. Он склонился над Аликом:
— Как дела, старик?
— А-а, ты… Расписание привез?
— Какое расписание? — удивился Фима.
— На паром… — слабенько улыбнулся Алик.
«Дело к концу, — подумал Фима. — Сознание начинает мешаться».
И он вышел в кухню, загромыхал в холодильнике примерзшими кассетами со льдом.
«Идиоты, какие же все идиоты. Ненавижу», — подумала девочка.
Она недавно проходила греческую мифологию и единственная из всех догадалась, что Алик имеет в виду не South Ferry. Со злым и высокомерным лицом она подошла к окну, отогнула край жалюзи и стала смотреть вниз. Там всегда что-нибудь происходило.
Алик оказался первым взрослым, кого она удостоила общением. Как и многих американских детей, ее с малолетства таскали по психологам, и не без оснований. Она разговаривала только с детьми, с большой неохотой делала исключение для матери, остальные взрослые для нее просто не существовали.
Учителя принимали ее работы в письменном виде, выполнены они были точно и лаконично. Ей ставили высшие баллы и пожимали плечами. Психологи и психоаналитики строили сложные и весьма фантастические гипотезы о природе ее странного поведения. Нестандартных детей они любили, это был их хлеб.
Познакомилась она с Аликом на вернисаже, куда мать притащила свою неуклюжую девочку. Они тогда только-только переехали из Калифорнии в Нью-Йорк, и потерявшая сразу всех друзей Тишорт согласилась пойти с матерью. С Аликом ее мать была знакома со времен ее цирковой юности, еще по Москве, но в Америке они много лет не виделись. Так долго, что Ирина совершенно перестала думать, что именно она ему скажет, когда они встретятся. В тот день, когда они встретились на вернисаже, он левой рукой взял ее за пиджачную пуговицу с толстым, как курица, орлом, резким поворотом оторвал ее, подбросил и поймал.
Потом раскрыл ладонь и мельком взглянул на сияющего орла:
— Придется сказать тебе одну вещь.
Правая рука его висела вдоль тела как неживая. Левой он прижал Иринину густо-русую голову, волосок к волоску причесанную, с черным шелковым бантом в натуральных жемчужинах по краю, и шепнул ей в ухо:
— Ирка, я скоро помру.
Казалось бы, ну и помри. Ты для меня уже давно умер… Но она ощутила прикосновение узкого и тонкого металлического лезвия под ложечкой, и медленное его движение внутрь, и острую боль по всему разрезу до позвоночника. Рядом стояла дочка и смотрела во все глаза.
— Зайдем ко мне, — предложил Алик.
— Я с дочкой. Не знаю, захочет ли она. — Ирина посмотрела на Тишорт.
Девочка давно уже с ней никуда не ходила. Ирина еле уговорила ее пойти на эту выставку. Она спросила у дочери, совершенно уверенная, что та откажется:
— Хочешь, зайдем в ателье к моему знакомому художнику?
— К этому рыжему? Хочу.
И они зашли. Картины, хотя были явно недавние, очень напоминали прежние. А через несколько дней зашли еще раз, почти случайно — мимо проходили. Тогда Ирину вызвали на какое-то важное деловое свидание, и она оставила Тишорт в мастерской часа на три, а вернувшись, застала невероятную картину: они орали друг на друга, как две разгневанные птицы. Алик размахивал левой рукой, правая уже съежилась и почти не действовала, он приседал и немного подпрыгивал:
— Да неужели тебе в голову не приходило, что все дело в асимметрии? Все дело в этом! Симметрия — смерть! Полная остановка! Короткое замыкание!..
— Да не ори ты! — кричала покрасневшая всеми веснушками Тишорт, и акцент ее был сильнее обычного. — А если мне нравится? Просто нравится! Почему вы всегда-всегда правы?
Алик опустил руку:
— Ну, знаешь…
Ирка едва в обморок не упала у лифта. Алик, сам того не зная, в два счета разрушил ту странную форму аутизма, которым страдала ее девочка лет с пяти.
Старое злое пламя вспыхнуло в ней, но сразу же и погасло: чем таскать дочку по психиатрам, не лучше ли предоставить ей возможность человеческого общения, которого ей так не хватало…
Снова щелкнул лифт. В дверном проеме Нинка увидела новую посетительницу и вылетела навстречу, натягивая черное кимоно.
Маленькая, редкой толщины тетка, заботливо поставив между колен раздутую хозяйственную сумку, с пыхтеньем усаживалась в низкое кресло. Была она вся малиновая, дымящаяся, и казалось, щеки ее отливали самоварным сиянием.
— Марья Игнатьевна! Я вас третий день жду!
Тетка села на самый край сиденья, растопырив розовые ноги в подследниках, которые на этом континенте не водились.