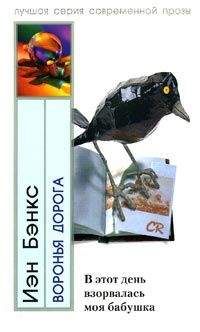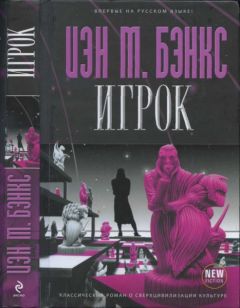Снова посвящается Энн, и еще спасибо
Джеймсу Хейлy[1],
Мик Читэм[2],
Энди Уотсону
и Стиву Хаттону
В этот день взорвалась моя бабушка.
Я сидел в крематории, внимал похрапыванию дяди Хеймиша под баховскую Мессу си минор и размышлял о том, что других причин для моего приезда в Галланах, кроме чьей-нибудь смерти, похоже, нет и быть не может.
Я посмотрел на отца: в гулкой стылой часовне он сидел через два ряда, в первом ряду кресел. Большая его голова с седеющей каштановой шевелюрой тяжело нависала над твидовым пиджаком; на рукаве чернела повязка – дань трагизму случившегося. Уши неторопливо и ритмично шевелились – очень похоже двигались при ходьбе плечи у Джона Уэйна[3]. Мой отец скрежетал зубами. Может, сердился на бабушку: для своих похорон она заказала религиозную музыку. Но вряд ли она это сделала ему назло. Скорее всего, ей просто нравилась Месса, и бабушка не подозревала, что клерикальная сущность сего произведения так противна ее старшему сыну.
Слева от отца сидел Джеймс, мой младший брат. Впервые за несколько лет я видел его без плеера; ему было явно не по себе, и он теребил свою единственную серьгу. Справа от отца восседала мать, худая и стройная. Она аккуратно заполняла собой черное пальто и служила постаментом такого же цвета шляпе в форме летающей тарелки. Вот НЛО резко накренился: мать что-то шепнула отцу. От этого движения во мне проснулась скорбь утраты. Должно быть, здорово сегодня чешутся родинки у безвременно ушедшей от нас бабушки, если она уже вернулась на этот свет в другом воплощении.
– Прентис! – Тетя Антонайна, которая сидела между мной и художественно храпящим дядей Хеймишем, потеребила меня за рукав и показала на мою ногу. Ее шепот и жест заставили меня глянуть вниз.
Нынче утром в доме тети и дяди, в холодной комнате с высоким потолком я облачился в черное. Скрипели половицы, изо рта шел пар. Мансардное оконце обледенело изнутри, и вид на Галланах застило кристаллическим узором. Я натянул черные трусы, специально из Глазго привезенные, белую рубашку (свежачок от «Маркса и Спаркса»[4]; прохладный хрусткий хлопок еще хранил упаковочные складки) и черные «пятьсот первые»[5]. Сидя на кровати, я дрожал и пялился на две пары носков: черные и белые. Собирался надеть черные, но тут только сообразил, что какая, на хрен, разница, ведь поверх носков будут «мартенсы»[6] – девять дырочек, две одинаковые пряжки на берце.
Когда я был здесь на предыдущих похоронах (они же – первые похороны в моей жизни), мне такой прикид казался вполне адекватным. Но сейчас в меня, повзрослевшего и образумившегося, вселились сомнения: а не буду ли я в «пятьсот первых», «мартенсах» и черной байкерской куртке выглядеть белой вороной? Я вынул из сумки белые кроссы «найк», на пробу сунул в один ногу, другую сунул в ботинок, но шнуровать поленился. Стоя перед косо висящим зеркалом в полный рост, я дрожал и выдыхал белые клубы, а половицы скрипели, и из кухни пер запах жареного бекона и подгоревших гренков.
Пусть будут кроссовки, решил я.
И вот теперь в крематории я глядел на них, и не нравились они мне. Задрипанные-заляпанные. На строгом черном граните пола часовни смотрелись, мягко говоря, не в тему.
Опаньки! Один носок черный, другой – белый! Я заерзал на сиденье, потянул штанины книзу, чтобы прикрыть свой позор.
– Мудила хренов! – прошептал я.– Ой!.. Пардон, тетя Тоуни.
Тетушка Антонайна – шар подкрашенных розовым волос над черным пеньком воротника, точно сахарная вата на катафалке,– похлопала меня по кожаной куртке.
– Пустяки, дружок,– вздохнула.– Уверена, старушка Марго не обиделась бы.
– Это точно,– кивнул я.
Снова мой взгляд опустился на кроссовки. И только сейчас я заметил на носке правого отчетливый след протектора. Я закинул левый «найк» на правый и без особой надежды на успех потер черный «селедочный скелетик». И вспомнил, как полгода назад вывозил старушку Марго из дома и катил мимо надворных строений и дальше, по дорожке под кронами деревьев, к озеру и морю.
* * *– Прентис, что там у вас с Кеннетом?
Двор был вымощен булыжником, инвалидное кресло кренилось и подпрыгивало.
– Мы поссорились, бабуля,– ответил я.
– Это я и сама вижу, чай, не дура.
Она оглянулась на меня. В серых глазах, как всегда, горел огонек бодрости. Волосы у нее тоже сделались серыми и здорово поредели. Между ветвями дубов проглянуло солнце, и я под седыми прядями увидел бледную кожу.
– Да, бабуля, знаю: вы умная.
– Ну, и?..– Она показала клюкой на постройки.– А давай-ка проверим, там ли еще тачка,– Бабушка Марго снова оглянулась на меня, и покатил я кресло заданным курсом, к зеленым двустворчатым воротам одного из гаражей.
– Ну, и?..– повторила бабушка.
– Бабуля, тут дело принципа,– вздохнул я. Мы остановились у ворот гаража, и она клюкой отодвинула засов и надавила на створку, да так, что слегка прогнулась планка. А затем, вонзив клюку в образовавшийся проем, налегла на нее и заставила двинуться вторую створку, стержень шпингалета которой проскрежетал по выточенной в бетоне канавке. Я чуть откатил кресло назад, позволяя створке распахнуться. В падающих через проем солнечных лучах кружились пылинки, а дальше было темно. Мне едва удалось различить чехол из тонкого зеленого брезента, криво натянутого на некий предмет высотой мне по пояс. Бабушка Марго приподняла клюкой край чехла, а потом ухватилась за него и – откуда только силы взялись? – сдернула одним махом. Чехол упал с передка машины, и я вкатил кресло с бабушкой в гараж.
– Дело принципа? – Она наклонилась вперед, присматриваясь к длинному темному капоту автомобиля, и снова потянула чехол, открыв уже и лобовое стекло. С колесных дисков были сняты покрышки и камеры, машина стояла на деревянных брусках.– Что еще за принцип? Не бывать в доме твоего отца? В твоем родном доме?
– Бабуля, давайте лучше я.– Сдернув брезент, я откинул его на багажник, и теперь стало видно, что заднее стекло отсутствует.
В снопе лучей прибавилось кружащейся пыли, и этот пыльный свет превратил бабушку Марго в силуэт сидящего человека; ее редкая до прозрачности шевелюра светилась подобием нимба. Бабушка глубоко вздохнула. Я посмотрел на машину. Длинная, очень красивая, старомодная в лучшем смысле этого слова. Зеленая краска скрывалась под слоем пыли. Крыша над зияющим проемом заднего окна—в царапинах и вмятинах, как и оголенная часть крышки багажника.
– Бедолага,– прошептал я, сочувственно качая головой.
Бабушка Марго выпрямила спину:
– Ты про меня или про нее?
– Бабуля…
Я запнулся, смекнув, что она меня видит очень хорошо, потому что солнце светит ей в спину. А я лицезрел лишь темный силуэт – разность между светом и мраком.
– Да ладно.– Она успокоилась и ткнула в колпак колеса палкой: – Так что там за глупые принципы?
Я отвернулся, провел пальцами по хромированной стальной полоске на задней дверце:
– Ну… папа на меня разозлился: я ему сказал, что верую… Ну, в Бога, типа того.—Я пожал плечами, не осмеливаясь взглянуть на бабушку.– Он теперь со мной не… Точнее, я теперь с ним не… Мы друг с другом не разговариваем, и я не бываю в доме.
Бабушка Марго поцокала языком:
– Вот так, да?
Я все-таки глянул на нее и кивнул:
– Так, бабуля.
– А как же отцовские деньги? Как же твое содержание?
– Ну…
Я умолк: не знал, что и сказать.
– Прентис, на что же ты живешь?
– Да все у меня отлично,– солгал я.– Стипендии хватает.– Это я снова соврал.– К тому же мне дали грант.– Опять врака.– Да еще в баре подрабатываю.
Четвертая ложь кряду! В бар мне устроиться не удалось, и я продал свою «сиесту». Это такой «фордик»-невеличка, леноватый при разгоне с места. Покупатели намекали, что он убитый, а я спорил: фигня, тачка гаражная, просто гараж прохудился. Впрочем, тех денег давно след простыл.
Бабушка Марго долго вздыхала и качала головой. И укоризненно бормотала: «Ох, уж эти мне принципы».
Она сама поехала вперед, но кресло тут же забуксовало на брезенте.
– Ты мне не поможешь?
Я подошел сзади, перекатил кресло через скомканный брезент. Бабушка открыла заднюю дверцу и заглянула в темный салон. Пахнуло тронутой плесенью кожей – мне этот запах напомнил детство, пору, когда в мире еще жило волшебство.
– Когда я в последний раз сексом занималась, это было здесь, на заднем сиденье,– мечтательно проговорила бабушка и оглянулась на меня.– Прентис, не надо так смущаться.
– А я и не…
– Все в порядке, это было с твоим дедом.– Худенькой рукой она похлопала по крылу машины и с улыбкой тихо добавила: – После танцев.– Бабушка снова посмотрела на меня, на морщинистом породистом лице – веселье, глаза блестят.– Прентис, да ты покраснел!