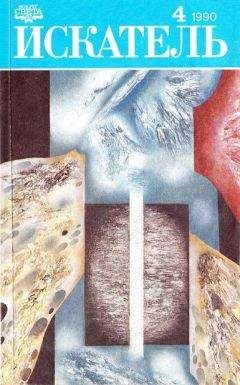В старших классах Митя занимался в кружке при зоомузее, выезжал на выходные за город, но остальное время шлялся с гитарой и приятелями по улицам. Учился плохо. Бабушка тайком ходила в школу, а на уроке учительница раздраженно выговаривала Мите:
— Спишь, Глазов! Опять бабушка будет приходить четверку вымаливать.
Класс смеялся, а на собрании родителей Вера Ивановна заводила: «Как вы думаете, его не испортят?», и все это обсуждалось между родителями и школьниками, и его товарищ, крепыш горнолыжник и гитарист, лыбясь, цитировал бабушкино описание Митиного отъезда в лес: «Х-хе, мешок на себя навьючит».
После провала на зоологический факультет Митя год работал и, купив на одну из первых зарплат магнитофон, переписывал пленки и особенно много слушал одного хриплоголосника. Дядька хрипел так, будто не мог откашляться, будто за короткую жизнь такой гадости набрал, что все пытался выпеть ее, выкричать, а она все булькала, хлюпала в горле, пока он, так и не прооравшись, не погиб от водки и духоты. Бабушка его на дух не принимала:
— Орет, как пьяный мужик.
Песня называлась «Разведка боем»: разведчик набирает группу в разведку, и ему не нравится малый из второго батальона, но потом оказывается, что паренек, которого он не совсем знает, «очень хорошо себя ведет». Бабушка все слышала, делая вид, что занята, а после слов:
С кем обратно идти, где Борисов, где Леонов?
И парнишка затих из второго батальона, —
вытерла глаза и быстро вышла из комнаты.
Митя сам что-то сипел под «восьмерку» и досипелся до своей самодельной песенки, которую спел по телефону подружке. Трубка лежала перед гитарой, и он не знал, что на кухне бабушка сняла вторую. В песне он кого-то догонял, то ли девушку, то ли осень, то ли обеих в одном лице, и причем ночью и на очень мощной машине. После слов:
И снежинки, пьяные от света,
Насмерть разбивались о стекло, —
вошла бабушка с блестящими глазами, сказав что-то хриплое, а он покраснел как рак и выбежал на улицу.
Осенью Митя крепко нарезался со старшими товарищами-студентами. Пили в стекляшке пиво, сухое и портвейн в скверике, не жрали, с кем-то корешились, а потом компания рассосалась, и он поплелся домой. Еле дойдя, буянил, а едва залег, его затошнило. Тамара Сергеевна и Вера Ивановна, с которой он спал в одной комнате, носили таз. Упреждая упреки, орал что-то безобразное и косноязычное. Потом рухнул. А однажды утром бабушку разбило. Попойка и бабушкин паралич были главными событиями той поры, и то ли памяти не за что было между ними зацепиться, то ли жизнь слишком неслась, но время между пьянкой и бабушкиным инсультом сжалось в одну ночь и навсегда запомнилось, впечаталось, что вот вечером он буянил, а утром бабушка уже лежала парализованная его скотскими криками и рвотой. Вся его трепетная отдельность, нежелание тревожить близких переживаниями — все рассыпалось, разлетелось по комнате брызгами рвоты, которые ранним утром он счищал с лака своей гитары, а бабушка лежала рядом, виновато улыбаясь половиной лица. Через год она умерла. А через пару лет Евгений Михайлович уехал в Ливерпуль, где у него образовался контракт с британским телевидением.
4
Тогда у Елизарыча Лариска пыталась уложить Митю на кушетку, но Елизарыч заранее кинул ему старый собачий спальник, на котором он с удовольствием растянулся.
Приснилась бабушкина смерть. Все сидят на кухне, и вдруг бабушке становится плохо, вызывают «скорую», и бабушка уже внизу, на улице, лежит на какой-то кровати, и санитар кричит им вверх, что она умерла, а они с мамой сидят как приклеенные. Бабушка в Митиных снах умирала не однажды и всегда по-разному, и Митя от одного ожидания, что горе вот-вот навалится колесом, глубже прорежет душу по старой ране, готов был спятить, а бабушка оставалась наивно-спокойной и всегда умирала как впервые.
И вот от этой ее наивности еще сильнее душит горе, хочется плакать, но слез нет, нечем дышать, и он просыпается от приступа астмы. Озираясь, он видит свет в приоткрытой двери, какой-то рыжий глазок, оказавшийся плиткой, и все крутится под ним пол, или он сам крутится в незнакомой полутьме, пока не замирает, как стрелка, покачавшись в стороны, и не узнает кухню почтаря. Он встает, чувствует на лице и шее трухлявый собачий ворс и садится на табуретку у стола.
Сон теряет краски, и скорбь, как рыбина на воздухе, тоже выцветает, лишаясь силы, а он не хочет отпускать своего горя, своей любви, своей гаснущей близости к бабушке и, взяв со стола налитую стопку, выходит с ней под звезды и долго дышит сквозь маленькую дырочку в отекших бронхах, пока ее не начинает протачивать морозным воздухом.
И думает о том, что копии с воспоминаний должны бы тускнеть, образ с годами — забываться, а он только набирает силу, настаиваясь на снах, и чем дальше, тем ярче, обещая под конец дойти и вовсе до живой крепости, словно бабушка, и, отчаявшись догнать его из прошлого, пробиваться к нему с другой стороны.
Митя поднимает мерцающую стопку к небу, долго глядит сквозь густую и горькую водку на любимую бабушкину Кассиопею и этим звездным настоем поминает бабушку так светло и горячо, как только бывает в жизни.
5
Раньше Митя себя считал самой главной и устойчивой частью жизни, а время — чем-то зыбким и суетливо сквозь него скользящим, теперь же единственно главным и извечным стал загнутый в прозрачное колесо оборот енисейского года, на который человек лишь наматывался, и на сколько витков хватит, одному Богу известно. Если раньше время мерилось часами или неделями, то теперь — только скрипом льда в берегах, непосильным трудом по замораживанию и размораживанию рек, перелетом птиц и шорохом ветра, все будто поправляющего, одергивающего и переставляющего что-то вокруг дома.
По сравнению со всем этим начальственные выходки Поднебенного, то норовящего под страхом увольнения вызвать в командировку в разгар осени, то шлющего бессмысленные телеграммы вроде: «Пролонгируйте закрепление электростанции Глазовым», казались смешной и мелкой возней, а сам Поднебенный — несуразной и назойливой помехой, чье краткое присутствие еле терпелось. Каждое лето вокруг поселка терлась подозрительная публика: то какой-то хитрец палаточник из Москвы, то списанный капитан, то дальний и липовый родственник тети Лиды по кличке Ббосая Голова все обхаживали Поднебенного и, предлагая услуги, рвались на работу в Дальний — место было безлюдное и во всех смыслах превосходное. Начальник сиял:
— Дима, не забыли, что скоро договор кончается? На твое место, хэ-хэ, очередь уже!
Наука давалась со скрипом. Дальше учетов и отчетов дело не шло. Мефодий требовал мыслей и понимания направления, а Митя в направлении не видел ничего, кроме превращения живых птиц в колонки цифр. Не было большего страдания, чем вымучивать статью, — чувствовал себя школьником на сочинении про фамусовское общество, когда герои как живые, а про «социальную роль» двух слов не связать.
Сами учеты Митя любил, ходил и ездил почти каждый день, и все у него было почти как у Хромыха: так же грел «Буран», поигрывая подсосом, так же накрывал брезентом, перевалив Енисей, и, нацепив камусные лыжи, ломился в гору. И так же напряженно стоял посреди тайги, освободив из-под шапки ухо, только Хромых слушал собак, а он — позывки клестов и поползней. В теплую ватную погоду, оглушенная снегопадом, тайга молчала, копя силы и про себя попискивая синицами, а в мороз взрывалась звоном проколевших глоток. Ниоткуда взявшихся щуров, казалось, на глазах вымораживало из каленого воздуха. Похожие на клестов, только еще крупнее и туже, они сидели на вершине высокой и стылой листвени, медно-красные в лучах низкого солнца, а в полете перекликались протяжным и многоверстным повелительным посвистом, висевшим в небе, как след самолета. В тепле щуры загадочно растворялись.
Митя несся по замерзшей забереге на «Буране», и морозный воздух вминало в воздухозаборники капота, а потом перемалывало вентилятором и кидало на горячие цилиндры, и как пил двигатель этот холод, так и Митина душа, привыкшая к простору и набравшая обороты, тоже не могла без этой налетающей дали, в которой мешалось солнце, каменный снег, черные кедры — все настоящее, грубое и до хруста напитанное синевой. И выходило, что Поднебенный управлял этим потоком, мог его придержать, отвести, направить на другого или вовсе прикрыть.
— Кинь ты ему пару хвостов, — недоумевал Хромых, — он же ждет.
— Вот и противно, что ждет, — упирался Митя.
Хромых считал это слюнями.
— Да пусть подавится, главное — определенность.
Но соглашался:
— Тошно с козлами дело иметь. Дал тут одному шифер и до сих пор вытянуть не могу, до того на отдачу тяжелый.
Митя сказал, что тоже отдал одному коленвал, но с самого начала знал, что тот не вернет.