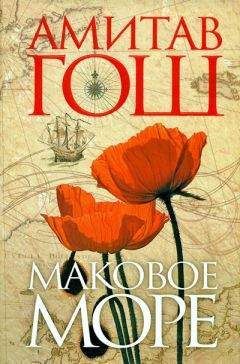Он встал с койки и открыл дверь, за которой увидел ожидавшего боцмана.
— Ладно, входи, — уныло сказал Захарий. — Только давай мухой, пока я не передумал.
Едва он оделся, как услышал гулкие крики с берега и ответные вопли с корабля. Через пару минут в дверь постучал мистер Дафти:
— Вы не поверите, но к нам пожаловал не кто иной, как сам мистер Бернэм! Берра-саиб! Так не терпится увидеть шхуну, что прискакал верхом. Я выслал гичку, сейчас он будет здесь.
Лоцман смолк и, прищурившись, внимательно изучил наряд Захария. Потом стукнул тростью и вынес приговор:
— Высший класс, мой юный друг! Этакому одеянию позавидует и кизилбаш.
— Рад, что выдержал испытание, сэр, — мрачно ответил Захарий.
За его спиной боцман Али прошелестел:
— Что я говорить? Теперь Зикри-малум раджа-саиб.
Чамарс представлял собой хутор, где обитали одни кожемяки. Дити и Кабутри было негоже туда входить, но, к счастью, Калуа жил на отшибе, неподалеку от гхазипурского тракта. С дороги Дити частенько видела его колымагу и хижину, больше похожую на хлев. Сейчас она подошла чуть ближе и крикнула:
— Эй, Калуа! Чего делаешь?
Не получив ответа на три-четыре оклика, Дити запустила камушком в темноту бездверной халупы. Послышался звяк, возвестивший, что голыш угодил в кувшин или другую глиняную посудину.
— Калуа! — вновь позвала Дити.
В лачуге что-то зашевелилось, темнота дверного проема стала гуще, и из нее возник согнувшийся в три погибели возчик. Словно в подтверждение того, что он обитает в хлеву, следом высунулись морды двух белых бычков, возивших его тележку.
Непомерно высокий детина, на любой ярмарке Калуа возвышался над толпой, и даже ловкачи на ходулях уступали ему в росте. Однако свое прозвище (Калуа — черный) он получил из-за оттенка кожи, напоминавшей старое засаленное точило. Говорили, малый вырос в гиганта, потому что в детстве был страшным мясоедом, и родители-кожемяки удовлетворяли его ненасытный аппетит падалью — остатками со скелетов дохлых коров и быков. Еще болтали, что телом он вымахал за счет ума и остался доверчивым простодушным увальнем, какого облапошит даже ребенок. После смерти родителей братьям и другим родичам не составило труда лишить простофилю законной крохи наследства; он не роптал, даже когда его выжили из отчего дома и поселили в хлеву.
Удача явилась нежданно-негаданно в виде трех отпрысков зажиточного помещичьего рода — заядлых игроков, чьим любимым занятием было делать ставки в схватках борцов и силовых состязаниях. Прослышав об удальце гиганте, они отправили за ним повозку и приняли в своем доме на окраине города.
— О какой награде ты мечтаешь? — спросили помещики.
Калуа долго скреб голову, а потом ткнул пальцем в тележку:
— Малик, я бы хотел иметь такую повозку, чтобы зарабатывать на жизнь.
Троица кивнула — мол, он получит желаемое, если выиграет схватку и пару раз продемонстрирует свою силу.
Калуа победил во всех матчах, легко одолев местных борцов и силачей. Юные господа получили хороший навар, а великан — свою тележку. Ничего удивительного, что после этого робкий миролюбивый детина хотел закончить спортивную карьеру, ибо не имел других амбиций, кроме извозчичьих. Однако не тут-то было: слава о его молодецкой удали достигла августейших ушей его высочества магараджи Бенареса, и тот пожелал, чтобы гхазипурский силач сразился с его придворным чемпионом.
Поначалу Калуа отнекивался, но помещики его улещивали, а потом пригрозили, что отберут повозку и быков; тогда великан отправился в Бенарес, где на широкой площади перед дворцом Рамгарх потерпел свое первое поражение — уже на старте схватки его отправили в нокаут. Что ж, результат закономерен, сказал довольный магараджа, ведь борьба — состязание не только силы, но и ума, а в последнем Гхазипур вряд ли когда одолеет Бенарес. Родной город был унижен, Калуа вернулся с позором.
Однако вскоре пошли слухи, что причина его поражения в ином: мол, в развратном Бенаресе у помещиков родилась мысль случить гиганта с женщиной. Они позвали друзей и заключили пари: отыщется ли дамочка, которая впустит в себя этого двуногого зверя? Юные шалопаи наняли известную танцовщицу Хирабай и вместе с избранной публикой спрятались за ширмой. Неизвестно, чего ожидала красотка, но, увидев Калуа в одной лишь тряпице вкруг чресл, она якобы возопила: «Этому жеребцу под стать кобыла, а не женщина!»
Потому-то оскорбленный Калуа и проиграл схватку, говорили во всех уголках Гхазипура.
Так вышло, что Дити стала единственным человеком, который мог бы поручиться за верность этой истории. Как-то вечером, накормив мужа, она вдруг обнаружила, что в доме нет воды; оставлять посуду немытой было нельзя — накликаешь призраков, оборотней и упырей. Ничего, дело пустяковое: ночь светлая, лунная, до Ганга рукой подать. Пристроив кувшин на бедре, через маковое поле Дити пошла к серебрившейся реке. Она уже почти вышла на песчаный берег, когда услышала перестук копыт, а потом в лунном свете увидела четырех всадников, рысивших со стороны Гхазипура.
Встреча с конником не сулила одинокой женщине ничего, кроме неприятностей, а уж с четырьмя кавалеристами, скачущими бок о бок, и подавно. Не теряя времени, Дити нырнула в маки, доходившие ей до пояса. Всадники приблизились, и она поняла, что ошиблась: верховых было трое, четвертый передвигался на своих двоих. Дити сочла его конюхом, но вот кавалькада подъехала совсем близко, и она разглядела, что пешего тащат на аркане, точно лошадь. Исполин, которого Дити приняла за всадника, был не кто иной, как Калуа. Теперь она распознала и наездников, которых в Гхазипуре все знали в лицо, — троица помещиков-игроков. Один крикнул: «Давай здесь, место хорошее, вокруг ни души!»; по голосу было ясно, что он пьян. Едва не поравнявшись с Дити, всадники спешились; двух коней они связали вместе и отогнали пастись на маковом поле. Третью лошадь, огромную вороную кобылу, подвели к заарканенному Калуа. Великан всхлипнул, повалился на колени и стал хватать помещиков за ноги:
— Май-бап, хамке маф карелу… Простите, господа… я не виноват…
Ответом были пинки и брань:
— Ты ведь нарочно проиграл! Скажешь, нет, сволочь?..
— Знаешь, сколько мы потеряли?..
— Что там Хирабай говорила?..
Дернув за веревку, помещики заставили Калуа встать и подтолкнули его к кобыле, махавшей хвостом. Рукоятью хлыста с великана сдернули набедренную повязку. Один помещик держал кобылу под уздцы, а двое других принялись стегать Калуа по обнаженной спине, пока он не прижался пахом к лошадиному крупу. Гигант испустил вопль, не отличимый от лошадиного ржанья.
Помещики развеселились:
— Видал? И регочет, будто жеребец…
— Скрути ему яйца…
Внезапно кобыла вскинула хвост и испражнилась, изгваздав бедра и живот Калуа. Троица зашлась от смеха. Один помещик ткнул великана хлыстом в задницу:
— Давай, Калуа! И ты облегчись!
Видение надругательства над ней в брачную ночь до сих пор преследовало Дити, и теперь, сидя в маковом схроне, она закусила ладонь, чтобы не вскрикнуть. Значит, такое бывает и с мужчинами? Даже такого силача можно унизить и подвергнуть непереносимой муке?
Дити отвернулась и вдруг увидела двух коней, которые подошли к ней почти вплотную — еще шаг, и они коснутся ее боками. Понадобилась секунда, чтобы отыскать маковую коробочку без лепестков, но с венчиком острых колючек. Подкравшись к жеребцу, Дити зашипела и ткнула его колючей головкой в холку. Конь отпрянул, точно от змеиного укуса, и бросился прочь, увлекая за собой привязанного собрата. Паника мгновенно передалась вороной кобыле, та рванулась и лягнула великана в грудь. Помещики на миг оцепенели, а потом кинулись за лошадьми, оставив на берегу голого, измазанного навозом Калуа.
Дити понадобилась вся ее отвага, чтобы подойти к бесчувственному телу. Удостоверившись, что злодеи не вернутся, она выбралась из своего укрытия и присела на корточки перед распростертым великаном. Он лежал в тени, и было не понятно — дышит или нет. Дити хотела коснуться его груди, но отдернула руку: трогать голого мужчину само по себе тяжкий грех, а если он еще и беспомощен — кара будет немыслимой. Дити воровато огляделась и, бросив вызов незримому свету, опустила палец на грудь великана. Стук сердца уверил ее в том, что Калуа жив, и она скоренько убрала руку, готовая задать стрекача, если дрогнут его веки. Однако глаза его были закрыты, и сам он так недвижим, что Дити отважилась его рассмотреть. Теперь было видно, что, невзирая на колоссальные размеры, он всего-навсего парень, у которого над верхней губой пробивается пушок; сейчас это был не молчаливый чернокожий гигант, дважды в день появлявшийся возле ее дома, а поверженный юноша. Прицокнув языком, Дити наломала речного камыша, которым, как мочалкой, обтерла навоз с неподвижного тела. Потом аккуратно расправила белевшую на земле повязку, чтобы его прикрыть.