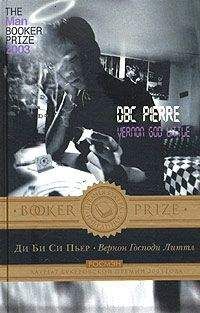Я вынимаю наркотики из обувной коробки в шкафу и переправляю их в карман. От соприкосновения с косяками рука у меня сама собой становится влажной. Где-то на улице брешет Курт.
Если честно, то, что бы там ни рассказывали о старом мистере Дойчмане, никто не утверждал, будто он и в самом деле вставил какой-то конкретной школьнице. Или школьницам. Может, просто лапал их, там, хуяпал, ну, сами знаете. Конечно, говнюк тот еще, не подумайте, что я его защищаю. Он был не то директором школы, не то еще каким-то благочестивым ебанашкой с открытым лицом и широкой улыбкой в те времена, когда за такого рода вещи было еще не принято отрывать яйца. А может, и еще того раньше, до эпохи ток-шоу, когда тебе могли залудить по полной просто за неправильное слово, сказанное в неправильном месте. Может, тогда он и стригся в модном унисексе на Гури-стрит, с кофейным автоматом и прочими делами. Теперь-то он носа туда не кажет, а крадется задами, вдоль скотобойни, в парикмахерскую при мясокомбинате. Ага, на мясокомбинате по воскресеньям работает собственный парикмахер. Сегодня утром здесь только мы вдвоем с мистером Дойчманом. Если не считать матушки.
– Не слушайте вы Вернона, унисекс, как правило, стрижка короткая.
Шаль и темные очки, судя по всему, должны были сделать ее невидимой. Человек-невидимка, только в юбке и очень дерганый. А на мне сегодня самая истошно-красная футболка, которую вам только приходилось видеть в жизни, как на каком-нибудь шестилетнем спиногрызе. Я не хотел ее надевать. Но она определяет, что тебе надеть, самым элементарным образом: в самый нужный момент оказывается, что все остальное просто не успело высохнуть после стирки.
– Бросьте, сэр, не переживайте, они снова отрастут.
– Черт, ма…
– Вернон, это все для твоей же пользы. И нужно будет подобрать тебе какую-нибудь обувь поприличней.
У меня по заднице сбегает струйка пота. Освещение погашено, и на зеленый здешний кафель падает всего один луч света – сбоку, от дверного проема. В воздухе стоит отчетливая мясная вонь. Мухи стерегут два допотопных парикмахерских кресла в самой середине комнаты; белая когда-то кожа стала коричневой, растрескалась и затвердела, и теперь ее не отличить от пластика. Единственное, чего на них не хватает, – ременных зажимов для рук. В одном сижу я, в другом – мистер Дойчман; руки у него ерзают под покрывалом. Есть чем заняться, пока парикмахер измывается надо мной. Снаружи раздается свисток и на усыпанной гравием площадке собирается парадно-духовой оркестр мясокомбината. «Брааап, барп, бап», – начинается репетиция. Одной из одетых в военную форму барышень на вид никак не менее восьмидесяти тысяч лет от роду; когда она пытается маршировать, жопа шлепает по ляжкам. Я перевожу взгляд на стоящий в углу телевизор.
– Смотри, Вернон, у него нет ни рук, ни ног, а на вид такой опрятный. И у него есть работа, слышишь – он даже умудряется играть на бирже.
В телевизоре репортер спрашивает этого парня, каково быть таким одаренным. А тот пожимает плечами и говорит в ответ: а что, разве не каждый человек по-своему одаренный?
Парикмахер по большей части стрижет воздух; на столик падают две половинки от мухи.
– Барри заходил. Сказал, что здесь могут быть замешаны наркотики.
– И не только замешаны. Но и расфасованы, – говорит мистер Дойчман.
– Наркотики или еще один ствол.
– Ага, или еще одна стволочь. Я слышал, что все дело в женских трусиках – вы слышали про женские трусики?
Спокойствие, только спокойствие. Не хотел бы я оказаться на собственном месте, если они, суки, действительно найдут наркотики. Потому и сижу здесь с двумя косяками и двумя колесами кислоты в кармане; невъебенные конфетки, если верить Тейлор, глотнешь одну – и такое ощущение, будто мозги у тебя выстреливают из носа, как челюсти у «чужого», и хавают небо в алмазах. Хотел было сбросить их по дороге, но Судьба повернулась ко мне жопой. В последнее время эта сука просто не выходит из раковой позы. В смысле, Судьба.
Короче, надо паковать рюкзак и делать ноги; и буду я весь такой одинокий и резкий, как по телику. Сбросить Тейлорову дурь и уёбывать на хуй. И как-нибудь поумнее, чем вчера вечером, когда вокруг дома стояли лагерем Лалли и репортеры всего мира. Я не успел и четырех шагов отойти от крыльца, как они уже взяли след. Теперь они уверены, что рюкзак у меня битком набит травой. А прошлая ночь была долгой, блин, долгой и промозглой от призраков и внезапных озарений. Озарений насчет того, что пора вынимать голову из жопы и что-то делать.
– Когда сюда зайдет Вейн со своими собаками, – говорит парикмахер, – то я ей скажу, что нам тут нужны не бобики на поводках, а спецназ, с этими их автоматами[6], которые рубят преступников в капусту.
Щелк, шш-ахх; между делом он ровняет мой череп. Я оглядываю пол: не появилось ли там ухо-другое.
– Капуста, она завсегда лучше собак, – говорит Дойчман.
– Верн, сиди смирно, – говорит матушка.
– У меня срочное дело.
– Кстати, можно попробовать в магазине Харриса.
– Что?
– Ну, спросить насчет работы. Зеб Харрис, вон, даже грузовик себе купил!
– Я не об этом. К тому же, видишь ли, у Зебова папаши собственный магазин.
– Я в том смысле, что поскольку ты теперь единственный мужчина в доме, то мне кажется, что я могу на тебя рассчитывать. Все ребята уже нашли себе работу.
– Какие именно ребята, ма, ну, просто для примера?
– Ну – Рэнди. И Эрик.
– Рэнди и Эрик умерли.
– Вернон Грегори, я всего лишь навсего хочу сказать, что если ты считаешь себя достаточно взрослым, то тебе давно пора взяться за ум и понять, как устроен мир. Пора стать мужчиной.
– Вот именно.
– И нечего тут умничать, просто перед людьми неудобно. А то опять все кончится, как в прошлый раз, когда я нашла те самые трусики.
У Дойчмана под покрывалом дергается рука.
– Т-твою мать! Мама!
– Давай, давай, ругайся на мать, ругайся.
– Я не ругаюсь!
– Господи боже мой, если бы только твой отец все вот это видел…
– А вот и Вейн, – говорит парикмахер.
Я штопором выкручиваюсь из кресла, стаскивая на ходу, через голову, покрывало.
– Давай, давай, Вернон, продолжай в том же духе, унижай свою мать после всего, что мне пришлось пережить.
Да пошла ты на хуй. Я пинком распахиваю дверь-сетку и вываливаюсь на солнышко. Солнечные зайчики от капота фургона из графства Смит скачут между ног у марширующего оркестра. Может, Мученио это вам и хихоньки, но с ребятами из графства Смит лучше не связываться. В графстве Смит есть даже бронированные грузовики для переброски личного состава, это вам не хер собачий. Тромбоны плюются солнечным сиянием, в полированных боках фанфар отражается Вернон Литтл: он прикидывается ветошкой, съеживается и утекает в кусты, вверх по склону, за домом.
Горячая трава хлещет по лицу, пока я карабкаюсь вверх по склону; кузнечики буравят воздух во всех направлениях, но пыль настолько разомлела на солнышке, что подниматься не желает. Над моим пустым, отчаявшимся телом маячит в небе одинокое облачко. Неужели вы думаете, что моя старушка мама побежит за мной следом? Щас. Она останется, чтобы выложить ребятам все говно, какое только есть у нес в запасе на мой счет, так, чтобы в следующий раз, когда мы встретимся на улице, на лице у них играла мудрая, все понимающая улыбка. Теблядьсамыетрусики.
И какие там, на хуй, наркотики. У Хесуса в жизни не было столько денег, чтобы покупать наркотики. Ёбаный Мухосранск. Если верить науке, в этом городе должно быть в общей сложности десять сквиллионов серых клеток, но если тебе еще нет двадцати одного года и тебя стошнит прилюдно, здешний народец общими усилиями родит две мысли максимум: значит, либо ты обдолбанный, либо залетел. Ёб твою мать, какое блядство. Надо рыть отсюда, куда глаза глядят. Жизнь проста, когда я злой. Я просто знаю, что надо делать, иду, блядь, и делаю. Трусики, блядь.
Вот еще, послушайте, что я знаю: у любителей повертеть ножами, вроде моей матушки, в жизни, кроме сна, есть одно-единственное главное занятие. Они плетут из говна большие такие, влажно поблескивающие сети. Как пауки. Нет, правда. Сколько ни есть во вселенной слов, словечек и словишек, они любое мигом переадресуют аккурат тебе в спину. Так что в конце концов уже не важно, что ты говоришь, ты просто чувствуешь каждое слово сквозь лезвие. Типа: «Глянь, вот это машина!» – «Ага, того самого же цвета, что свитер, который ты порвал на рождественском празднике, помнишь?» Я уже давно успел усвоить, что родители всегда одерживают верх потому, что с самого твоего рождения собирают базу данных, в которую заносят каждую сделанную тобой дрянь или глупость, и в любой момент готовы пустить ее в дело. Глазом моргнуть не успеешь, а тебя уже срезали, как миленького; только подумаешь, чем бы таким в них запустить, глядь, а тебя уже возят лицом по асфальту.