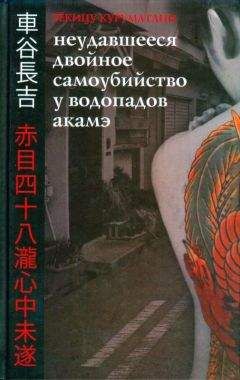— Эй, парень, лекарство есть у тебя? Лекарство. У меня мужик кровью харкает.
Кроме исподнего, на ней не было ничего. Я ещё не успел ответить, как вдруг в её глазах промелькнул испуг, она резко повернулась и ушла в соседнюю комнату. Я пошёл следом за ней. Когда я вошёл в комнату, она торопливо застёгивала юбку, а на полу рядом с ней, вжавшись лицом в циновку, бился в агонии голый мужчина.
— Чего подглядываешь, а? — вдруг гневно проговорила она, вытолкала меня в коридор, затем вышла из комнаты сама, дрожащими руками заперла дверь и, задыхаясь, бегом спустилась по лестнице. С той стороны двери послышались стоны. Мужчина был совершенно лыс. Я вернулся к себе в комнату, выключил электрическую лампу и затаил дыхание. Вскоре послышался топот уже не одной, а нескольких пар ног. Пришедшие вошли в соседнюю комнату, затем раздались голоса — нескольких мужчин и женщины: «За ту ногу бери!» «Ой, мамочка…» «А чего с трусами-то делаем?» «Чё спрашиваешь, придурок? Ты и бери!», затем снова послышался топот ног в коридоре: мужчину уносили. Уж точно не в больницу.
Через некоторое время на лестнице снова послышались шаги. Человек был один. Перед моей дверью шаги затихли. В дверь постучали. Я затаился в темноте, не дыша. Сжал в руке обвалочный нож. Замок в моей двери был сломан. Дверь приоткрылась.
— Извините, что нашумели, — проговорил уверенный мужской голос. Снова послышались шаги по ступеням, и мужчина ушёл.
На следующее утро пришла тётушка Сэйко. Сперва она, как всегда, молча дымила сигаретой, искоса наблюдая за тем, как я работаю. И вдруг тихо запела. Я посмотрел на неё. Уставясь невидящими глазами в стену, она пела:
Нити лотоса челнок я
Приходи ко мне, мицути[18]
Приходи, паук и муха,
Приходи, сороконожка
Предопределенья спица
Я плету удела нить
Грудью напою ребёнка
С Буддой Нара в рукаве.
Я слушал, не поднимая глаз, молча разделывая требуху. Её хриплый голос взволновал меня до глубины души.
— Хорошая песня.
— Не скажи!
Тётушка Сэйко мгновенно перестала петь. Наступило молчание, несколько неловкое. Я впервые сказал напрямик то, что было у меня на душе, но ей, как видно, показалось, что я над ней издеваюсь. Уже уходя, она проговорила:
— Что, вчера дым коромыслом стоял?
Удивлённый, я поднял глаза.
— А ты не беспокойся. Сходила я к нему, поговорила.
Сходила она, очевидно, к тому человеку, голос которого я слышал вчера в темноте. Но куда же увезли того, лысого? Судя по тому, что он харкал кровью, у него была чахотка. И всё равно люди, которые пришли за ним, наверняка, просто бросили его где-нибудь на улице. При их ремесле это было бы только естественно: если у самих земля горит под ногами, куда им заботиться о других? Но тётушка Сэйко сходила и поговорила с тем мужчиной. Из чего следовало, что я, сам того не заметив, с некоторых пор нахожусь под её опекой.
Я снова и снова невольно вспоминал песню, которую спела тогда тётушка Сэйко. Казалось, будто моё сердце желало вобрать её в себя, впитать до последней капли. Вдруг мне вспомнился напев Тэмариута,[19] которому меня научила та, что покинула меня на станции Ёцуя. Сама она выучила его от тёти, которая потом покончила с собой.
Мостик ты столичный
Ай да мостик средний
Завтра будет девице
Шесть да десять лет
Нарядись-ка ты девица
Наложи румяна
Наложи, да меру знай
Не то люди засмеют
Дверь с решёткой приоткроешь
Кожа жирна да груба
Пудра как посыплется
Век за веком, век за веком
А давеча мужичка
На совет позвали
А красавица служанка
На подносе расписном
Суп из карасей давала
Ивой стан свой изогнув
Он одну тарелку выпил
Две тарелки, три тарелки
Разъярился мужичок
Закусить-то нечем
Злость сорвать-то не на ком
И в воронью реку плюх
Плыл да плыл да плыл да
Ай да, эй да, хэй да хой.
Я выучил от неё слова этого напева одно за другим, как птенец, покорно заглатывающий один за другим кусочки еды, принесённой матерью. И запомнил его на всю жизнь. Она сказала мне, что эта тётя была младшей сестрой её отца и воспитала её вместо матери. «Отравилась она вскоре после полудня, во время солнечного затмения», — сказала она. Я спросил у неё дату, и оказалось, что отчётливо помню этот день. Я был ещё ребёнком, дело было летом, и я шёл из школы домой через зелёные рисовые поля равнины Банею, глядя на затмение сквозь целлулоидную подкладку для школьной тетради. Разумеется, знать не зная, что в районе Сосигая в Токио брошенная любовником незамужняя сорокалетняя женщина приняла яд и ушла в мир иной.
К вечеру пришёл Сай забрать мясо. После недавнего происшествия его приходы вызывали во мне какое-то странное напряжение. Сам он, казалось, относился ко мне как прежде. И вёл себя так, словно между нами ничего и не произошло. Но в этот день случилось нечто неожиданное. Я доставал из холодильника требуху, как вдруг за спиной послышался голос:
— Вот тебе, выпьешь.
И на циновку с глухим стуком встала круглая чёрная бутылка какого-то европейского спиртного.
— А, спасибо, — откликнулся я, удивившись.
Но больше выдавить из себя ничего не смог.
Было часа четыре пополудни тихого дня конца апреля. Мухи беззвучно кружились под потолком. В комнате напротив слышались приглушённые голоса. Раскрылась дверь, и кто-то вышел — я подумал, что это был Маю. Вскоре на второй этаж поднялась Ая. Она вошла в комнату напротив, и довольно долго ничего не было слышно. Затем до меня донёсся её яростный голос:
— Чего? А ну повтори! — Ответа я не расслышал. — А тогда забирай своё говно и вали. Думаешь, с бабой любые шутки с рук сойдут? А, ты драться?! Ну держись — сейчас получишь!
Послышались звуки борьбы, затем глухой удар.
— Да что ты вдруг взбеленилась, я ж в шутку…
— Чтоб больше мне на глаза не показывался, понял? И деньги свои вонючие забери!
С измазанным кровью обвалочным ножом в руке я вышел из комнаты. В коридоре стоял мужчина лет этак пятидесяти, на вид — торговец. При виде меня он широко раскрыл глаза, обернулся к оставшейся в комнате девушке и прошипел:
— Дождёшься у меня, сука…
Подволакивая ногу, на которую он толком не успел надеть ботинок, он торопливо удалился. Ая яростно взглянула на меня и захлопнула дверь. Только тогда я заметил, что в углу коридора стоит Симпэй. Я тоже закрыл свою дверь.
Однажды под вечер во время майских выходных у помойки возле дома пожилые супруги с первого этажа рылись в мусоре в поисках вещей, которыми ещё можно было пользоваться, и еды, которую ещё можно было съесть. Я успел привыкнуть к подобным сценам за годы, проведённые в Токио и в Кобэ, но в этот раз ощущения, что видишь просто нищих, копающихся в мусоре, не было. Казалось, будто две обращённые ко мне печальные спины — сами души этих людей, скрывшихся от всего мирского в каморке на первом этаже. Души, творящие неведомую молитву. Голубизна неба резала глаза до боли.
Я оглянулся. Даже здесь, в самом центре города, повсюду цвели цветы. У обочины росла трава, пылали цветы азалии, за забором цвела роза. Не замедляя шаг, я на ходу сорвал цветок азалии, прижался к нему губами и отпил нектара. На площади возле станции бесцельно шатались бродяги, не нашедшие себе на день работы.
Вернувшись, я нашёл на полу брошюрку какой-то религиозной организации — очевидно, её забросили в комнату через щель вечно приоткрытой двери. Ознакомившись сперва с доктриной, насквозь прошитой притянутыми за уши доводами, я наткнулся на следующий текст, который потряс меня до глубины души. «Прыгни хоть раз в огонь. И тогда ты впервые поймёшь, что огонь — горячий. Будучи человеком разумным, ты думаешь, что прекрасно знаешь это и так. Но выговорить слово „горячо“ так, чтобы в нём звучала истина, дано лишь тому, кто хоть раз прыгал в огонь. И тогда это слово становится словом Бога. Словом жизни. Произнесённое тем, кто никогда не прыгал в огонь, слово „горячо“ — лишь оболочка слова, пустая и безжизненная. И тебе это известно лучше любого другого. Изначально слова были у Бога. Тогда каждое слово было истинно. Когда же слова перешли от Бога к людям, они стали лживы. Но вот незадача: даже произнесённые людьми, слова иногда глаголят истину. Задумайся о том, что такое истина, и ты поймёшь, что истина — всё то, что возлюблено Господом. Но людям не дано знать, как угодить Его сердцу. И они лгут, слепые в своей гордыне. На самом деле лгать человека заставляет ни что иное, как его тщеславный разум. Недаром иероглиф „ложь“ состоит из двух частей: „человек“ и „делать“. То есть ложь — то, что свойственно человеку изначально. Но даже человеческие слова иногда говорят правду. Потому, что в каждом человеке живут и дышат неподвластные разуму духи — дух духовности, дух порыва, дух повествований, дух очищения, дух зла и другие подобные духи, которые часто приводят человека к гибели. Однако…»