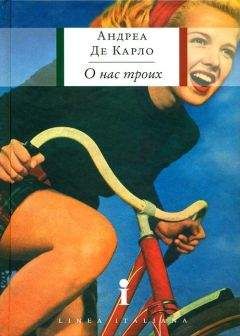И тут я бросился к ней — невольно, не раздумывая. Только что стоял метрах в двух от Мизии, держа в руке налитую до половины чашку, а через секунду чашка уже упала на пол, и я прижимался лицом к ее волосам, шее, груди, тонул в ее тепле, мягкости, аромате. Я действовал чисто импульсивно, и сразу головой в омут; так человек смотрит из окна на улицу, облокотившись на подоконник, и если и думает о том, чтобы прыгнуть вниз, путь ему преграждает прозрачное стекло, но вдруг через мгновение он, сам не понимая как, оказывается за окном, летит вниз, и пути обратно уже нет.
Кажется, я пытался ее поцеловать или, по крайней мере, сжать в объятиях: я стремился прикоснуться к ней и поражался сам себе, инстинкт и новые, непередаваемые ощущения, мучительные сомнения и ее глаза, такие близкие, отчаянная тяжесть и отчаянная легкость, путающиеся мысли, полный сумбур в голове. Я тонул в своих ощущениях: торопился, вырывался, нырял с головой, выныривал.
Я почувствовал, как напряглась Мизия, и снова на меня навалились мучительные сомнения; тяжело дыша, она высвободилась из моих рук, отступила назад. Я вдруг вновь обрел зрение, слух, чувство пространства, как будто в темной комнате внезапно зажегся свет.
Я смотрел на Мизию, и расстояние между нами увеличивалось с головокружительной скоростью: ее глаза с расширенными зрачками, губы, всего миг назад касавшиеся моих, побледневшее лицо. На нем появилось какое-то странное выражение, и я не сразу понял, что оно означает: явное огорчение и разочарование, и меня прямо отбросило назад, назад, назад, я врезался спиной в стол на козлах, опрокинул его, чашки, бумаги, кусочки сахара, книги, коробки, пузырьки с тушью, монеты, ручки, заварочный чайник, детали телефона разбросало в разные стороны, как после взрыва, а я плюхнулся на пол и ударился головой об стену.
Мизия стояла посреди комнаты, а я смотрел на нее, сидя на полу, в луже из разноцветных чернил, чая и стеклянных осколков, сожаление и разочарование в ее глазах, горькая улыбка на губах отзывались у меня в сердце болью — я даже не представлял, что такая боль существует.
Мне было так плохо, что я готов был расплакаться; лечь ничком перед ней и попросить прощения тысячу раз подряд; кинуться к окну, распахнуть его и броситься вниз, только бы не думать о том, какую страшную и глупую ошибку я совершил и все испортил.
Мизия смотрела на меня, все еще очень бледная, но кровь уже начала приливать к ее щекам, и они постепенно розовели, хотя кожа у нее была очень светлой от природы.
— Прости, прости, прости, черт бы меня побрал! — Надо было встать и подойти к ней ближе, но я просто не мог; только сказал: — Мне жаль, жаль, жаль. — Я чувствовал себя полным идиотом, грубияном и нахалом, особенно по сравнению с ней, открытой и потрясающе естественной; мне казалось, что я испоганил произведение искусства неприличной надписью, загадил альпийский пейзаж, опорожнив мусоровоз, полный промышленных отходов. Я уже мысленно представлял себе Мизию, распахивающую дверь, сбегающую по ступенькам во двор на улицу, покидающую навсегда мой дом и мою жизнь. Уже представлял, как опустеет моя квартира и сколь невыносимым будет чувство утраты.
Но она продолжала смотреть на меня, не двигаясь с места, и постепенно выражение ее лица стало более спокойным, огорчение и разочарование куда-то исчезли, а потом появилась улыбка — сначала едва заметная, потом все шире и шире. Мизия провела рукой по лбу, по волосам; расхохоталась, согнувшись пополам и закрыв глаза.
Я не верил своим глазам, но через секунду, сам того не заметив, уже смеялся вместе с ней, напряженно и неуверенно, и не мог остановиться, как ребенок, впавший в истерику от того, что ни поступки, ни слова, ни сама жизнь ему не понятны. Мы смеялись, каждый на своем месте: она стоя, я сидя в луже из разноцветных чернил и чая; мы смотрели друг на друга, прерывисто дышали, дрожали, тихо всхлипывали, нервы наши были на пределе, и при каждом вдохе в легкие проникали облегчение и отчаяние.
С появлением Сеттимио все сразу завертелось, фильм с поразительной быстротой обретал реальность. Только что мы с Марко бродили по Милану и обсуждали его, как обсуждали десятки других неосуществимых идей, и вдруг раз — идея стала осуществимой, два — Марко уже дописал сценарий и у нас уже были почти все актеры и почти все члены съемочной группы.
Мы с порога отвергли мысль о профессионалах и о тех, кто собирался ими стать: Марко не хотел иметь дело ни с людьми, склонными к нарциссизму или маньеризму, ни с циничными, во всем разочарованными специалистами. Он хотел только тех, кто бы начал с чистого листа и был таким же любопытным, неугомонным, безрассудным, как мы; он считал, что это единственный способ создать что-то новое, и я был с ним согласен. Поэтому мы решили, что он будет кинооператором («Все эти режиссеры, толстожопые уроды, за них все делают другие, а они развалятся на своих складных стульях и разве что время от времени приложатся глазом к видоискателю», — говорил он), а я займусь светом. Звукооператором мы сделали моего придурковатого соседа, а костюмером и секретарем — мою троюродную сестру. Актеров отыскали среди друзей, знакомых, бывших одноклассников, плюс Сеттимио Арки, который добыл нам оборудование в обмен на роль и чье лицо, вдобавок, показалось Марко интересным. Сеттимио привел еще и помощника оператора, своего приятеля, участвовавшего в съемках каких-то рекламных роликов и документальных фильмов; это стало единственной уступкой техническому опыту со стороны нашей команды: мы могли обойтись без чего угодно, но изображение в кадре должно было быть в фокусе.
По поводу главного героя мы до сих пор сомневались: Марко с самого начала думал о нашем бывшем однокласснике по имени Вальтер Панкаро, который и в жизни был таким же необузданным психопатом, как и персонаж фильма, но мы оба опасались, как бы это сходство только не навредило. Мы решили устроить проверку — позвали его на прогулку и заставили пить, курить, говорить, дразнили и подначивали, чтобы оценить разнообразие его мимической гаммы, но гамма оказалась довольно скудной. Потом мы зашли в пиццерию, и под конец ужина, когда Панкаро, скрюченный, как марсианин, еще сидел над последним куском остывшей пиццы «Четыре сезона», Марко тихо сказал мне: «Ладно, годится». Не меняя выражения лица, я таким же бесцветным голосом ответил, что, может, стоит поискать кого-нибудь более подходящего; но Марко сказал: «Все, все, решено. Вопрос закрыт». Такая у него была манера: чего-то изо всех сил добиваться, а потом пускать дело на самотек, перебирать в уме несметное множество решений, выбирать почти наугад одно и уходить в него с головой, словно других и не было; на том все и кончалось.
Если посмотреть этот фильм сейчас, вполне может показаться, что Марко просто воплотил в нем свой первоначальный замысел и за каждым персонажем, эпизодом, кадром, диалогом стояло то особое, не знающее сомнений видение мира, которым проникнуты все фильмы, книги, картины, составившие панораму его творчества. Однако это совсем не так: то, что Марко задумывал сценарий, который он написал, — все это очень далеко от того, что у него получилось. В фильме совсем другие атмосфера, идеи, чувства.
Марко всегда говорил «наш фильм», но в действительности это был с самого начала его фильм, я лишь служил фильтром и камертоном для образов, приходивших ему в голову. Чем ближе был день начала съемок, тем Марко становился беспокойнее, все его внимание уходило на то, чтобы выискивать и собирать элементы фильма во всем, что он видел, слышал, читал: жест прохожего на улице, заголовок в газете, строчка из песни, услышанной по радио, надпись на стене, взгляд девушки в окне трамвая, да и любое видение, внезапно возникающее перед нами во время ночных прогулок по городу. Он говорил «Постой» с таким напряжением в голосе, словно именно этот, особый миг требовал от него сосредоточения всех душевных сил; на моих глазах новый элемент включался в зыбкие рамки воображаемого фильма, начинал взаимодействовать с тысячью других элементов, выдуманных и реальных. Случалось, он впадал в ярость: голос становился резким и отрывистым, взгляд мрачнел; он толкал людей, переставлял предметы — только чтобы лучше увидеть, лучше почувствовать, лучше понять, почему его заинтересовало именно это, а не другое.
Общаться с ним стало труднее, чем раньше, но не настолько, чтобы наша дружба оказалась под угрозой. Мысль о том, чтобы снять фильм, не связывалась для меня ни с честолюбием, ни с поисками своего «я», ни с гордостью; мне просто нравилось проводить с ним время, открывать неведомый прежде мир, иметь в запасе кое-что интересное, что можно рассказать Мизии. С другой стороны, Марко с его упрямством, ленью, нигилизмом слишком трудно было в одиночку находить общий язык с реальностью, и он ценил ту роль среднестатистического зрителя, ледокола, посредника, синхронного переводчика, которую я при нем играл. Наша дружба строилась на том, что я служил мостом, соединявшим его с остальным миром, а он указывал направление и конечную цель; меня вполне устраивало это распределение ролей: при полном несходстве наших природных дарований оно казалось мне честным, равноценным обменом.