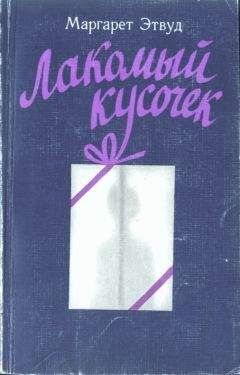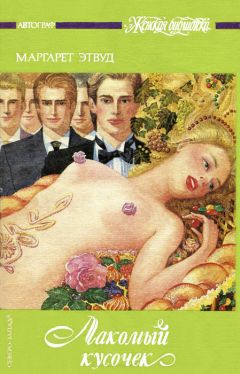— А о чем вопросы? — спросила она, подозрительно поджав губы.
— Всего лишь о пиве, — сказала я наигранно-легко, пытаясь при помощи интонации создать впечатление, что разговор идет о чем-то вполне невинном.
Выражение ее лица переменилось. Я испугалась, что меня сейчас выставят. Но она немного подумала, отступила, пропуская меня, и сказала голосом, неприятным, как холодная овсянка:
— Заходите.
Я оказалась в безупречно вымытой прихожей, где стены были выложены кафелем, а в воздухе пахло отбеливателем и мебельной политурой. Хозяйка удалилась, плотно затворив за собой дверь. Послышался приглушенный разговор, затем дверь снова открылась, и я увидела высокого седого мужчину с суровым лицом. Женщина стояла за его спиной. На мужчине был черный пиджак, хотя день был очень теплый.
— Вас, девушка, — сказал он мне, — я не осуждаю: я вижу, вы славная и милая и лишь служите, сами не ведая того, орудием в чужих руках — орудием для достижения отвратительной цели. Но не откажитесь передать эти брошюры тем, кто послал вас; может быть, их сердца еще можно обратить к истине. Распространение спиртных напитков и поощрение пьянства — это преступление, грех против господа нашего.
Я взяла брошюры, но, чувствуя себя ответственной за репутацию Сеймурского института, сочла нужным заметить:
— Наша фирма не занимается продажей пива.
— Не вижу разницы, — строго сказал он. — Не вижу тут никакой разницы. «Те, кто не со мной, — против меня», — говорит господь. Не пытайтесь обелить торговцев несчастьем и пороком. — Он было уже отвернулся от меня, но передумал и добавил напоследок: — Вы, девушка, и сами можете прочитать, что здесь написано. Уверен, что вы не оскверняете свои уста прикосновением к алкоголю, но нет души, которая была бы вполне чиста и не подвержена соблазну. Пусть семя упадет не в придорожную канаву и не в бесплодную почву.
— Спасибо, — робко проговорила я, и губы хозяина чуть шевельнулись в улыбке. Жена его, со скорбным удовлетворением наблюдавшая эту краткую проповедь, шагнула вперед и открыла мне дверь. Я вышла, подавив рефлекторное желание пожать им руки.
Да, начало было малообещающим. Шагая к следующему дому, я осмотрела обложки брошюр. «Воздерживайтесь!» — приказывала первая. Вторая называлась более романтично: «Пьянство и дьявол». Видно, священник, подумала я; но уж, конечно, не англиканской церкви. И, может быть, даже не унитарной. Наверное сектант.
В соседнем доме никто не отозвался на звонок, а следующую дверь открыла девчонка, вымазанная шоколадом; она сообщила мне, что папа еще спит. Ну, а дальше я попала как раз туда, куда нужно, — я почувствовала это, едва войдя. Входная дверь была открыта настежь, и, позвонив в звонок, я увидела, как через прихожую ко мне идет мужчина среднего роста, но очень плотного сложения, пожалуй, даже грузный; он был в нижней рубашке и шортах. Нас разделяла стеклянная дверь, и, когда хозяин отворил ее, я заметила, что он без туфель — в одних носках. Лицо у него было красное, как кирпич.
Я объяснила, зачем пришла, и показала карточку со шкалой еженедельного потребления пива. На шкале десять делений, причем каждое имеет номер, потому что некоторым мужчинам неловко произнести вслух, сколько пинт пива они выпивают в неделю. Он указал на номер девять, второй сверху. Очень редко кто-нибудь указывает на номер десять: каждому хочется думать, что другие пьют еще больше, чем он.
Ответив таким образом на мой первый вопрос, он сказал:
— Пойдемте в гостиную, присядем. Вы, наверное, устали ходить по такой жаре. Жена только что ушла в магазин, — добавил он, неизвестно для чего.
Я опустилась в кресло, а он убавил звук телевизора. Я увидела бутылку пива, производимого фирмой, которая конкурирует с «Лосем». Бутылка была наполовину пуста. Хозяин уселся против меня, улыбаясь и вытирая лоб платком, и на предварительные вопросы отвечал с видом эксперта, выносящего неоспоримые суждения. Прослушав по телефону песенку, он задумчиво поскреб волосы на груди и отозвался о ней с тем самым восторгом, о котором мечтают армии рекламных агентов. Когда мы кончили, я записала его имя и адрес (это делается для того, чтобы не дублировать интервью), встала и начала благодарить его. Тут он с пьяной ухмылкой вскочил с кресла и направился ко мне.
— Разве это дело, чтобы такая хорошенькая девушка расхаживала по домам и спрашивала мужчин, что они пьют! — хрипло сказал он. — Мужа надо завести — или вам дома не сидится?
Я сунула в его потную руку брошюру о воздержании и убежала. Опрос еще четырех мужчин обошелся без приключений; я выяснила, что к анкете надо добавить пункт: «Не имеет телефона — конец опроса» и еще пункт: «Не слушает радио», и что мужчины, которым нравится фамильярный тон песенки, не одобряют выражение «крепкое до слез»; они считают его «слишком легкомысленным», или, как сказал один из них, «слишком жидким». Пятое интервью я провела с лысым дылдой, который так боялся высказать какое-нибудь мнение, что добиваться от него ответов было все равно что рвать зубы разводным ключом. Каждый раз, когда я задавала ему вопрос, он краснел, судорожно сглатывал воздух и делал мучительные гримасы. Прослушав рекламную песенку, он на несколько минут лишился дара речи. «Вам понравилась реклама? — спрашивала я. — Очень понравилась, средне или не очень?» Он долго молчал и наконец чуть слышно прошептал: «Да».
Осталось взять всего два интервью. Я решила пропустить следующие дома и перейти сразу к квадратному многоквартирному дому. Чтобы попасть в вестибюль, я, как обычно, нажала сразу кнопки всех квартир, и какая-то наивная душа в ответ открыла мне электрический замок.
В вестибюле было прохладно и хорошо. Я поднялась по ступенькам, покрытым слегка изношенным ковром, и постучала в первую дверь, на которой стоял номер шесть. Номер меня удивил, потому что более логично было бы на первой двери повесить табличку с номером один.
Никто не вышел на мой стук, и я постучала снова, погромче, подождала и уже собиралась перейти к следующей квартире, как вдруг дверь бесшумно отворилась и на меня уставился мальчик, которому на вид было лет пятнадцать.
Костяшкой пальца он протирал глаз, как будто только что встал с постели. Он был без рубашки, и я увидела, что он чудовищно худ; ребра у него торчали, как у изможденных святых на средневековой гравюре, и были обтянуты бледной, даже желтоватой, точно застиранная простыня, кожей. Он вышел босиком, без рубашки, в шортах защитного цвета. В глазах, полузакрытых спутанной массой прямых черных волос, свалившихся на лоб, застыло грустное и в то же время упрямое выражение, как будто он нарочно сделал такую мину.
Мы стояли, уставившись друг на друга. Он явно не собирался заговорить со мной, и я тоже не знала, как начать. Анкеты у меня в руке вдруг показались мне неуместными и даже как будто агрессивными, точно оружие. Наконец я проговорила — каким-то неестественным, пластмассовым голосом:
— Здравствуй! Отец дома?
Он даже бровью не повел и продолжал смотреть на меня все с тем же выражением.
— Нет. Отец умер, — сказал он.
Я охнула и на секунду потеряла равновесие: от резкой перемены температуры у меня немного кружилась голова. Время как будто замедлилось; мне было нечего сказать, но уйти или хотя бы отвернуться я не могла. Он по-прежнему стоял в дверях.
Простояв так несколько секунд, которые показались мне часами, я решила, что он, может быть, старше, чем я подумала. У него были темные круги под глазами и едва заметная сеточка морщин.
— Тебе действительно всего пятнадцать лет? — спросила я, как будто он мне сообщил свой возраст.
— Мне двадцать шесть, — мрачно сказал он.
Я вздрогнула и, словно его ответ внезапно ускорил течение времени, в одно мгновение выпалила, что я из Сеймурского института, ничего не продаю, стараюсь улучшать товары, хочу задать всего лишь несколько простых вопросов, а именно: сколько он выпивает пива за неделю; тараторя все это, я думала про себя, что, судя по его виду, он пьет одну только воду и ест только черствый хлеб, который ему иногда бросают в его темницу. Он все же проявлял ко мне мрачный интерес (такой интерес может проявить прохожий к мертвой собаке), поэтому я протянула ему карточку со шкалой потребления пива и попросила указать свой номер. С минуту он глядел на карточку, перевернул ее, посмотрел оборотную сторону, на которой ничего не было написано, закрыл глаза и сказал: «Номер шесть».
То есть от семи до десяти бутылок в неделю, — достаточно для того, чтобы продолжать интервью. Я сообщила ему об этом.
— Тогда заходите, — сказал он.
Переступив порог и услышав, как дверь с деревянным стуком закрылась за мной, я почувствовала легкую тревогу.
Мы оказались в небольшой квадратной гостиной, из которой одна дверь вела в крошечную кухню, а вторая в коридор, куда выходили спальни. Небольшое окно гостиной закрывали жалюзи, создававшие в комнате полутьму. Насколько можно было судить при таком освещении, стены гостиной были выкрашены в белый цвет, на них не висело ни одной картины. Пол устилал очень хороший персидский ковер с замысловатым узором бордовых, зеленых и фиолетовых завитушек и соцветий — лучшего качества, пожалуй, чем ковер нашей хозяйки, который достался ей от дедушки с отцовской стороны. Одну стену сплошь закрывали книги, стоящие на полках, которые были сделаны из простых досок, положенных на кирпичи. И еще в комнате стояли три старинных кресла, огромных и мягких. Одно было обито красным плюшем, другое — вытертой зеленоватой парчой и третье — чем-то линяло-лиловым; возле каждого кресла стоял торшер. Повсюду валялись бумаги, тетрадки, книги, открытые и перевернутые обложкой вверх, и книги с торчащими из них карандашами и закладками.