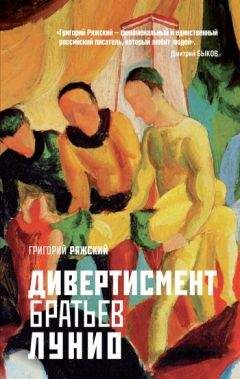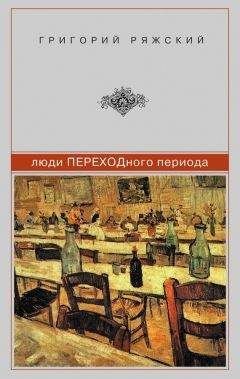Я подавленно молчал, переваривая слова моего папы. В то, что он пребывает в своём уме, верилось уже слабо. И неясно мне было, имел ли он в виду в последней фразе ту шишку из НКВД, расстрелянную три года тому назад, или по обыкновению вспомнился ему в тот день мёртвый наш вечно живой вождь Владимир Ильич, чьи идеи так и остались неосуществлёнными.
Денег он дал много. Очень много. Это были, как я понял потом, деньги, отложенные заранее. За проданный слиток, схоронённый от тех троих ОГПушников. Про него он, помнится, как-то вскользь упомянул в своё время. Но больше темы не касался.
Выданные мне отцом средства были в нашей семье последними. Если не считать двух оставшихся ювелирных вещей, не подлежащих никакой продаже никогда. Маминого кольца и готового заказа для чина из органов, пообещавшего нам войну с немцами.
Примерно до начала июня каждый день я, как заведённый, выполнял волю отца. Приходил в магазин, набирал продукты, тащил домой и складировал в квартире. Сначала постепенно забилась кладовка. Получилось до самого потолка. Когда незанятого пространства не осталось, перешёл к коридорным антресолям. Лыжи, велосипед, прочее старьё перетащил на балкон – так велел папа – и разместил рядом с двумя канистрами с керосином. А освобождённую под потолком площадь начал заставлять консервами. Туда же хорошо и удобно легли макароны с вермишелью вместе со ста пятьюдесятью упаковками печенья. Покончив с антресолями, перешел к кухне. Стало гораздо проще. Там всё было известно – где чего. Одно к одному, не меняя географии товара.
Отец ходил уже совсем тяжело, сухо кашляя кровавыми лохмотьями в мокроте, и молча отслеживал, как я справляюсь с его заданием. Ничего не говорил – значит, был доволен. К тому времени я уже заканчивал обставлять пачками и мешками отцовскую спальню, потому что он окончательно перебрался к себе в кабинет. Папа практически уже не спал. Да и не ел тоже почти. Только кашлял беспрестанно и пил горячий отвар.
Последние выданные мне деньги я потратил четвёртого июня, как сейчас помню. Как раз тогда я выбрал все оставшиеся пустоты спальни и разместил остатки покупок в своей комнате. Шестого принесли пенсию, и отец её тоже отдал мне. А под утро, в ночь с шестого на седьмое, мой отец, Наум Евсеевич Гиршбаум, умер. У себя в кабинете, на кожаном диване. И через три дня был похоронен рядом с мамой на Волковом кладбище, недалеко от того места, где лежала мать Владимира Ильича Ленина, основателя нашего государства, чьи идеи остались с нами, несмотря на то что сам он давно лежит в мавзолее на Красной площади.
Ещё через десять дней на мамином могильном камне появилась дополнительная золочёная надпись и добавилось одно керамическое фото, на котором папе было шестьдесят с небольшим. И всё.
Так я остался один, с отцовской месячной пенсией в кармане, законченным на «хорошо» и «отлично» восьмым классом средней школы и бессмысленным запасом непортящихся продуктов, которых должно было, по моим прикидкам, хватить примерно до конца жизни средней продолжительности...»
В этом месте я прерву эту повесть, чтобы вернуться к ней позже, – картина должна складываться правдиво, но постепенно и не слишком утомлять вас подробностями чужой жизни. А пока продолжу про другое. Про низкое. Про батю нашего, Гандрабуру, и про всё остальное.
Нет, сначала лучше про маму, про Дюку. Её давно уже нет, а отец жив и здоров. Так вот, дальше. Иван переехал в дедову большую квартиру в тот же день, когда уволился по собственному желанию. Верней сказать, по желанию Гирша. Дед не то чтобы принципиально был против, чтобы Иван работал, но просто, настаивая на увольнении зятя с фабрики, он преследовал двойную цель. С одной стороны, не хотел светить перед тамошними упаковочными образовавшиеся между ним и его подчинённым родственные отношения. С другой – посчитал полезным на первых порах нагрузить получившийся союз дочки с Иваном чрезмерным совместным времяпрепровождением, чтобы просто поглядеть для начала, что получится при такой интенсивности общей жизни.
Идея была, в общем, неплохой, хотя и не революционной. И здравого смысла в ней было немало. Подумал, пройдёт неделя-полторы, и начнёт с божьей помощью вырисовываться объёмная картина, которую видно будет всю насквозь. Как встали, что поели, о чём поговорили, как поулыбались друг дружке, с какой взаимностью, где прячется у кого козья морда и по какой причине она есть, если вдруг имеется. Ну и немаловажное – как ночью всё получается: нужно ли преодолевать себя с каждой стороны или всё, что случается, будет в радость обоим. Или хотя бы кому-то одному, по отдельности. Кому?
Сначала хотел поговорить с Дюкой на эту деликатную тему, найти подходящие слова и обсудить. Правда, одолевали сомнения. А вас бы не одолевали? Представьте себе мысленно всю эту картину, прикиньте и разложите по замедленным кадрам, как в кино. Поймёте тогда, что испытывал Гирш на своём месте, особенно в первый день. Я хотел сказать, в первую их ночь, отца и матери нашей.
Но, обнаружив наутро дочь с выражением рассеянной загадочности на маленьком светящемся лице, план свой отменил. Понял, что в этом смысле препятствий вроде пока тоже не наблюдается. И, выйдя на кухню, тайно перекрестился, по-православному, хотя и не умел, но на всякий случай.
Единственно ответственным делом теперь, о котором Иван помнил всегда после переезда к Лунио, стало поддержание им сытости своего большого организма, что в его теперешнем положении явилось по-настоящему важной работой. Кушать Иван любил, ел много и в охотку, как бы принудительным порядком выбирая с опережением срока дивиденды от случившегося в жизни новообразования. Средства на существование, в силу имеющейся договорённости, выдавал Гирш. Он же ими и заведовал. Это означало следующее: банкноты вынимались из положенного места, затем они, в объёме, близком к предстоящим тратам, выдавались семейству на проживу и тем же днём обменивались на товары народного потребления, по семейной нужде: будь то съестное для холодильника, предметы одежды или объекты другой житейской необходимости. Денег хватало всегда, отказа не было ни в чём, даже в малом. А про большее никто и не заикался, особенно Иван, разумея своим вечно голодным чревом, что надлежит держать негласный баланс между запросом и отдачей. Так что недостатка, который по обыкновению испытывают молодые семейные образования, не наблюдалось вовсе. К тому же мудрохитрый Гирш ухитрялся не быть транжирой, несмотря на явный запас финансовой прочности неведомого до поры до времени происхождения.
Иван немногое знал про дом, в который попал, больше чуял про него. И чутьё это в те минуты, когда Гандрабура не ел, не спал или не читал, шевеля губами, дурманные книжки из тестевой библиотеки, подсказывало, что семейный статус его не окреп ещё настолько, чтобы не быть аннулированным при известном стечении обстоятельств. Даже несмотря на всю без остатка Дюкину взаимность в самом что ни на есть сердечном смысле слова.
Гирша, внимательно наблюдавшего за жизнью дома, разрывало на две неравные части. Каждая из них с переменным успехом одолевала другую, соперничая по значимости и силе чувства. С одной стороны, если отбросить узловую человеческую составляющую, сумев выделить из неё и оставить для употребления лишь усушенную функцию, Иван вполне подходил для исполнения роли мужа карлицы-дочки. Тем более что едва ли нашёлся бы поблизости кто-то ещё помимо этого крупногабаритного, ленивого и неумного мужика, бездумно идущего на поводу у случайных жизненных обстоятельств. Снова прошу извинить, что это я так про родного отца, пускай и незаконного, но сейчас уже можно. Уже давно многое можно, чего раньше было нельзя. Но это к слову, иду дальше.
Именно так думал мой дедушка Гирш, руководствуясь в своих расчётах единственным и исключительным соображением – годы неполной обыкновенно жизни, отпущенные таким, как Дюка-Мария Лунио, должны протекать в радости и максимальном удовольствии от каждого календарного дня. И на место упаковщика этого удовольствия дедом, прекрасно понимавшим, что уже изначально платит ошибочную цену, был поставлен Иван Гандрабура. Цена же эта и являлась той самой второй частью, неистово сопротивлявшейся первой. Однако все прочие варианты представлялись Гиршу ещё более неприглядными: дедушка успокаивал себя тем, что польза от сожительства с Иваном, как ни посмотри, всё же весома. Уж что-что, а это я, Пётр Иванович Лунио, карлик, маленький человек и мужчина, по себе точно знаю. Вы в курсе, почему так? Потому что никакой нормальный мужик, если он не наш Иван, никогда не станет искать себе в партнёрши по жизни карликовую жену. Колом осиновым встанет в нём протест изнутри – ну не ляжет эта масть при нормальной раздаче, не сойдётся. А вот маленький, довольно симпатичный мужчинка вроде меня или Нямы, да ещё если он интересен собой как личность, при этом вполне мил, остроумен, не вреден, оптимально лукав и к тому же обладает приличным мужским инструментом, превосходящим в пропорциональном отношении 90 сантиметров имеющегося роста, вполне способен вызвать пристальный ответный интерес у полноценной крали, не имеющей вообще никакого изъяна. Об этом и толкую в придачу к главной истории.