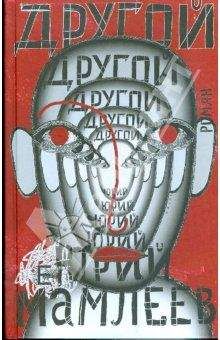— Невозможно так все время дрожать за свою жизнь, — укоряла ее мамаша, — В конце концов, ты же умница, верующая, сколько книг прочла… Ведь смерть — это не конец.
Алёна лучше ее знала об этом, но идея фикс ее была такова: жить здесь и сейчас, причем так, чтобы вечность, точнее вечное ее бытие, ее вечное «Я» присутствовало не где-то «там», а здесь, сейчас, при ней. И она действительно чувствовала это присутствие, но ей тайно-надрывно хотелось, чтобы это состояние всегда было с ней. Всякие изменения вроде смерти, распада этой жизни вызывали в ней ужас именно потому, что она слишком любила себя неизменную. А что будет после смерти — в конце концов ей неизвестно. «От добра добра не ищут», — самозабвенно думала она.
Много раз Вадим пытался вывести ее из лабиринта ее страхов, но напрасно.
— Алёна, то, что ты испытываешь, это финальное безумие и смертельный парадокс, — убеждал он ее. — Как можно быть верующей, столько знать о бессмертии, о продолжении жизни души и духа после смерти — и так бояться всего, что тебя окружает. Твой ум болен или надломлен.
— Я все понимаю, — ответила Алёна. — Но есть сила выше понимания.
Вадим уже год был совершенно очарован ею, но у него был какой-то таинственный соперник, с которым Алёна уже давно, но не постоянно, жила. Поэтому пока речь шла только о дружбе.
Загадочные реплики Алёны выводили Вадима из себя, но одновременно еще больше заколдовывали его. В глаза Алёны он вообще не мог смотреть более минуты, настолько они казались ему живой, но отрешенной одновременно, голубой бездной.
Когда от какого-нибудь случайного звука дрожь внезапно пробегала по ее спине, — Вадим терял всякое душевное равновесие.
Он и страдал и боялся за нее, и ужас охватывал его при мысли о ее гибели.
Еще одно мучило его: Алёна была художницей, и дух ее картин был на редкость близок к его собственным безумным картинам. Алёна рисовала маслом большие полотна, где изображались стихийные духи; и окружающий нас и вылезающий иногда наружу, к нам, ближайший мир диковинных полумудрецов и монстров. Были они суровые, насупленные, с совершенно нечеловеческим взглядом и настолько сливались, к примеру, с природой, что сама природа становилась частью, проявлением их самих.
На человека они смотрели осуждающе. Но главным в картинах становился подтекст, истошный и бесконечный вопль бытия, выраженный в изгибах живых линий. И цвет был вовлекающим в себя.
Живопись Вадима была несколько иная, но в глубинах — до ошеломления схожая, так по крайней мере считал он сам и это духовное родство окончательно добивало его.
Алёна нежилась в плену своих страхов. Она была одна в своей квартире. Раздался телефонный звонок. Алёна улыбнулась и не спрашивая кто, сказала: приходи. Она не ошиблась, пришел Вадим. Алёна уже готовила завтрак. Картина, где созерцали себя в зеркале причудливые твари, стояла в гостиной на мольберте. Одна тварь смотрела на себя особенно пристально. Увидев картину Вадим вздрогнул: он только что закончил свою работу (о которой никто еще не знал), — гоголевский Вий смотрит на себя в зеркало и весь он отражается там: глаза не видимы.
Вадим устало махнул рукой, решив, что все точки над «i» расставлены и покорно поплелся на кухню. О картине — ни слова. Алёна все поняла и угостила его чашечкой кофе с тортом. Бедный Вадим не мог сразу переключиться от мысли об их родстве, но, наконец, выдавил из себя мучавшую его историю Лени.
Алёна вздохнула и одобрила его намерение найти Акима Иваныча.
— Я тебе помогу, Вадимушка, хотя это безумный и заранее обреченный на неудачу поиск.
— Как будто так, — согласился Вадим.
— Тут сумасшедший парадокс…
— Да, это безнадежный поиск, — отсутствующе проговорил Вадим. — Но именно поэтому его нужно осуществлять.
— Хорошая мысль.
— По всему видно, что Аким Иваныч — уникален. И как до него добраться?
— Если говорить трезво, то это опасно. Не дай Бог, ни с того ни с сего уведет на тот свет!
Вадим вздохнул:
— Кто-то нас все равно уведет. А Аким Иваныч человек, я думаю, рассудительный на этот счет. Он знает, кого уводить, а кого нет.
Пыхтел чайник. Какие-то творожники ютились на столе. Алёна же предпочитала пышки. Попробовав самую пышную, она произнесла:
— Но по сути, зачем тебе этот поиск?
— Ты что? — и Вадим поднял палец вверх. — Аким Иваныч мне до судорог интересен. Это какое-то ископаемое. Таких еще не было. Ему-то, наверное, нет места ни в лучшем, ни в худшем мире.
Алёна заметила, любуясь своими руками:
— А если Лёня бредит? Сейчас столько развелось бредунов.
— Нет, нет! Я его хорошо знаю. И некоторые детали его рассказа убедили меня абсолютно.
Позавтракав, Алёна помрачнела:
— Мне надо ехать. По делу. Она стала быстро собираться. Вадим постарался ее успокоить:
— Ты — молода. А я, как обещал, сделаю все, чтобы твои картины хорошо продавались. Хорошо бы найти богатого монстра, похожего на твоих леших или пауков, чтобы он покупал твои картины.
Размышляя, они вышли на улицу.
Софья Петровна Бобова погрузилась в свое кресло. Пышная дама эта лет около пятидесяти отличалась малоподвижностью, зато маленькие глазки ее, тем не менее, смотрели востро и беспокойно-пытливо. (Кстати, Бобова никогда не занималась поиском исчезнувших людей.)
— Зачем пожаловала, Лерочка?
Лера сидела около нее на диване полуотключенная.
В комнату вбежал кот с расширенными глазами, шерсть дыбом.
— А, — заметила Софья Петровна, — значит, он нагадил. Он всегда, Лерочка, когда нагадит, сам не свой становится. Словно он не естественное дело справляет, а черт знает что делает. Пугается. Сам себя. А делает он по правилам, я его не ругаю. Испуг-то его не от мира сего. Недоволен он своим устройством. Очумевает.
Лера спокойно выслушала эту маленькую лекцию. Кот спрятался в угол.
— А как дочка? — вежливо спросила Лера.
— В Париже. Учится. И все на мои деньги, — горделиво ответила Софья Петровна. — Итак, Лерочка?
— Я решила роман писать. Если пойдет, то дело неплохое. И подзаработать немного, и для души. И собираю материал о всяких интересных, даже небывалых случаях. Включая криминальные.
— Молодец! Пора за ум взяться. Все переводы и переводы. Ты сама напиши, девчонка ты ведь крайне умная. Прославишься.
— Легко сказать. Вы могли бы мне, тетя, по родственному набрать историй всяких, от запредельных до болотных, до тихих, для моей книги. У вас же такой опыт. К вам люди успокоить совесть идут, это так ценно и необычно.
Тетушка громко расхохоталась, так, что кот выпрыгнул из угла.
— Не успокаивать, а «мочить» совесть, детка. Я совесть мочу, не успокаиваю… ха-ха-ха! За это мне и деньги платят. Ты думаешь, просто совесть замочить, у тех, конечно, у которых она есть?
Лера, действуя осторожно, заморгала глазами и превратила свое лицо в глупую маску.
— То-то. Но я не только этим занимаюсь. Я решаю задачи поглобальней, — и она ошалело посмотрела в потолок, словно что-то на нее наплыло, — я тебе, Лера, такое порасскажу, ибо верю в твой талант. Пойдем-ка, попьем чайку с коньячком. Небось, проголодалась, киска.
И она, грузно переваливаясь, поплелась на кухню, за ней — кот, а потом — Лера.
На кухне она сразу предупредила Леру:
— На меня не ссылайся, моего имени не упоминай, истории чуток видоизменяй. Ты же роман пишешь. Поняла?
Лера смирилась с ее поучительным тоном.
Пухлая Софья Петровна еле разместилась в кресле, которое было главной достопримечательностью кухни. Кот юркнул на подоконник и осуждающе поглядел в окно на мир.
Лера, чуть-чуть худенькая, женственная, уместилась на стуле, сложив ножки.
А самовар пыхтел на столе: здесь он никогда, кроме глубокой ночи, не прекращал своего существования и пыхтения.
Бобова начала с того, что очень глубоко и громогласно зевнула.
— Скажу тебе откровенно, племяшка, что народ нынче скучный пошел. Насчет совести ко мне мало кто приходит, в основном молодые бабенки, а мужики-то ведь совесть давно пропили. Я не клевещу на чужой пол, я о многих говорю, не всех, конечно. Приходят после всяких житейских катастроф, мол, вытяни, укажи, что делать и прочее…
— И что, тетя Соня, удачно у вас… того.
— Того, того. Обычно удачно. Я ж вижу кое-что. Укажу, куда вильнуть или как договориться. Но скука, Лера, одна житейщина, быт, ворье, а в основном семейная жизнь. Даже рассказывать тошно. Но людей жалко не меньше кошек. Я жалею.
И Бобова вдруг захохотала.
— Платят-то хорошо?
— По душе. Я особо не настаиваю, но шуток в этом плане не люблю…
— Да, но, поди, есть исключения, не один житейский бред…
— Есть, о них и речь для тебя. Приходит ко мне прошлый год одна, скажем так, девушка и рыдает. Юноша ее над ней же надругался, над ее любовью к нему. К тому же, мать умерла, отец пьет, жить, как обычно, не на что, но главное тоскливо после всего. Короче, повеситься хочет. Обычная история, казалось. Но нюанс в том, что перед тем как кончать, она просит, чтобы я за это ее деяние смыла, успокоила ее совесть. Ей, видите ли, совестно повеситься.