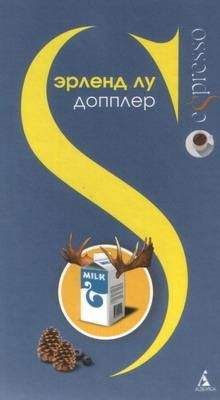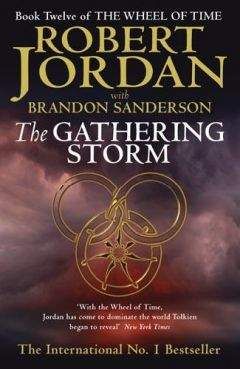Дюссельдорф встает, с кисточкой в одной руке и пинцетом, сжимающим пластмассовую детальку, в другой, делает шаг в панораму и показывает на один из перекрестков. Вот здесь это было, говорит он. А вон человек, который прислал матери письмо. Он указывает на солдата, опустившегося на одно колено позади разрушенной стены. Его звали Райнер. Хороший мужик. У него было хобби — клеить модели самолетов. Я виделся с ним пару раз, пока он не умер, года три-четыре назад.
Вернувшись за стол, Дюссельдорф продолжает красить дальше.
— Что-то в этом плане мне претит, — говорит он, помолчав. — Пафосно и банально. Не знаю. Посмотрю. Сам-то как? — спрашивает он.
— Да спасибо, — отвечаю я. — Нормально. Я в лесу живу, с лосем. Недалеко отсюда. У меня палатка.
Он поднимает на меня глаза.
— Могу я спросить, почему ты живешь в лесу?
— Я не люблю людей.
Он кивает.
— Это понятно, — говорит он, кладет кисточку и протягивает мне руку для пожатия.
— Дюссельдорф, — представляется он,
— Допплер, — отвечаю я.
Накануне матча наших против Испании ко мне в палатку является жена и говорит, что ей нужна передышка и поэтому они с подружкой улетают в четверг до конца недели в Рим.
— А, Рим, — говорю я, мысленно перебирая: Пантеон, Колизей, кардиналы, выставляющие себя напоказ, как продажные девицы, но занятые, однако же, исключительно рассуждениями на тему, есть ли душа у женщины, и, конечно же, Нерон, при котором Рим сгорел, а казни вошли в обиход. Наверняка Нерон людей тоже недолюбливал.
— В Рим в декабре? — говорю я. — Не холодновато?
— Нет, — отвечает моя жена.
— Ну и отлично, — говорю я. — Прекрасная идея. А как же дети? Кто за ними присмотрит?
— Ты, — отвечает она. — У Норы в четверг родительское собрание, а Грегусу в пятницу надо дать с собой в детский сад фрукт.
— Фрукт? — говорю я. — Где ж я его возьму? Нет, так не пойдет. Я не могу бросить палатку. И на мне лось.
— Я не собираюсь ничего с тобой обсуждать, — говорит жена, — Я пришла просто сказать тебе, что ты должен сделать, нравится тебе это или нет.
Дочь нашу зовут Нора [6], само собой разумеется — Нора! Моя жена помешана на Ибсене, ну и в целом на театре, она совершенно всеядна, смотрит обязательно все и всем восторгается. На ее некритичный взгляд, пьесы хороши уже тем, что они пьесы, театр великолепен сам по себе, а дочь должна быть названа в честь Норы, одной из первых наших поборниц женского равноправия. По мне, ее с таким же успехом можно было назвать хоть Строителем Сольнесом [7]. Но в тот момент я так не говорил— я был для этого слишком правильным. Мы оба считали, что Нора — отличное имя, хотя, наверно, для жены оно потянуло на пять с плюсом, а для меня так, на пятерочку.
— Так ты у нас в роли Норы? — говорю я, не успев хорошенько подумать.
— Не поняла? — говорит моя жена.
— Ты уезжаешь от мужа и детей, — объясняю я. — Точно как Нора.
— Нет, это ты у нас Нора, — отвечает жена. — Взял и сбежал от всего и вся уже полгода как.
— Я не Нора, я Африка, — объясняю я.
— Тебе нужно полечиться, — заявляет моя жена.
— А как вообще дела? — интересуюсь я. — Как питаешься? Как самочувствие?
— Нет, тебе определенно надо к доктору, — повторяет она.
После ухода жены Бонго долго дуется на меня. Ревнует, я думаю. Он видит в моей жене соперницу, что в общем и целом соответствует реальному положению вещей. Но жена это совсем не то что друг, растолковываю я Бонго. На ней я женат и должен строить отношения, ну и нравится она мне тоже, объясняю я. А с тобой мы друзья и будем всегда дружить, тебе я рассказываю такое, о чем с ней никогда не заговорю. Не бойся, говорю я, обирая с него блох.
Ты да я, говорю я, мы с тобой.
Со стадиона «Уллеволл» до меня долетает рев: наши играют против Испании. Подгоняемый любопытством, я забираюсь на верх склона и пытаюсь оттуда следить за матчем в бинокль, но вижу только небольшой кусок поля и часть одних ворот. В них влетает мяч, по гудению стадиона я понимаю, что отличилась не Норвегия. Потом еще дважды я слышу такое же гудение и догадываюсь, что игра продута. Норвегия не поедет на чемпионат в Португалию. И то правильно, что нам там делать, да, Бонго? Или ты думаешь иначе? Но из него слова не вытянешь, он как воды в рот набрал и не признается, что на самом деле думает о тренере нашей сборной, этом Сембе. Но ты хоть можешь сказать, он тебе нравится? — спрашиваю я. Бонго молчит. Нет, но все-таки, по-твоему, он душка и харизматик или ему давно пора убираться ко всем чертям? — настаиваю я. Нет ответа. В таком случае будем считать, что, на твой взгляд, ему пора убираться ко всем чертям. Поправь меня, если я ошибся. Он не поправляет меня, значит, я не ошибся. Признаться, я шокирован, говорю я тогда. Ты производишь впечатление мягкого, компанейского добрячка, а в душе у тебя, оказывается, кипит агрессия и копится нетерпимость. Ты должен бороться с этим, говорю я. У каждого из нас есть проблемы, но мы с ними постоянно боремся. У меня самого проблем море. Но то, что ты жаждешь крови тренера национальной сборной, господина Семба, это меня, извини, удивляет. Легко понять, что он тебе не нравится, но денно и нощно мечтать о расправе?!
А впрочем, почему бы и нет? Тебе виднее.
Я прихожу за сыном в садик к самому закрытию. Весь день я переживал и мучился: что я ему скажу? Как объясню, что последние полгода жил в каких-то трех-четырех километрах от него и ни разу не объявился? Что я выбрал лес? Счел за лучшее жить в палатке, в тишине, с лосями всякими, а не дома с ним, его сестрицей и мамой? Предпочел лес работе и, скажем, вылазкам в «Smart Club» [8], где покупаются полуторалитровые баллоны «Лактацида» и штабеля туалетной бумаги, дабы ягодицы всех членов семьи в любой момент не стыдно было предъявить общественности, а также конструктор «Лего» за полцены, жидкость для лобовых стекол в канистрах и сосиски в киоске на выходе? Грегус обожает «Smart Club». Но теперь моя клубная карта закончилась, а сам я выбрал жизнь в лесу, предстоит мне объяснять сыну, когда мы совсем скоро встретимся. Я отдал предпочтение лесу, а не «Smart Club» и прочим абсурдным местам, в посещении которых проходит век человека, если он женат и живет в столице Норвегии. Всего этого трехлетка, естественно, понять не в состоянии, или ему уже четыре? Бог мой, ему, я думаю, четыре уже исполнилось. Как летит время, когда живешь в лесу! Да. в общем, слова мои до него не дойдут. Ребенок, который может вскочить посреди ночи с вопросом, скоро ли мы опять поедем в «Smart Club», не поймет ни слова из моих мудреных объяснений, так что, стоя перед воротами детского сада, я чувствую, что все мои резоны и доводы прозвучат неубедительно.
Всех детей уже забрали, и Грегус, увидев меня, ударяется в плач. Воспитательница меня не узнаёт, а я не могу вспомнить ее. Она желает увидеть доказательство того, что я — это я, в чем я никак не могу ей помочь, потому что документов больше при себе не ношу, и говорю: послушайте, это же я, старина Допплер, хотите, расскажу вам шутки с позапрошлогоднего новогоднего утренника, говорю я под вопли продолжающего орать Грегуса, и все заканчивается не раньше чем я вынимаю из кармана нож и уже собираюсь срезать бороду, но сотрудница останавливает меня и звонит жене, которая, насколько я понимаю из их беседы, как раз подъезжает к Пантеону, и из автобуса, лавирующего по старым улицам Рима, жена подтверждает, что у меня есть борода и что я действительно выгляжу как грязный оборванец.
Грегус успокоился, мы бредем домой, и я расспрашиваю его о полной сложностей детсадовской жизни. Он, со своей стороны, интересуется, почему я выгляжу так странно. И я отвечаю, как оно и есть, что в данный момент я живу в палатке в лесу и что бороду я отрастил, потому что мне проще позволить ей расти, чем все время пытаться этому помешать. Заодно я добавляю, что у него самого когда-нибудь пробьется борода, но он считает, что я его нарочно обманываю.
Дома мы встречаемся с Норой, которую тоже повергает в шок мой внешний вид. Я говорю ей, что хочу забрать Грегуса к се6е, чтоб он побыл у меня в палатке, пока их мать не вернется из Рима. Естественно, я буду счастлив, если и она составит нам компанию, говорю я, прекрасно зная, что такое предложение ей наверняка поперек души. И точно, она отказывается. Она заканчивает работу о Толкиене, сообщает она, и планирует потратить выходные на то, чтобы все отшлифовать. Испуганный такой прилежностью, я начинаю уговаривать ее устроить лучше вечеринку. Только представь, урезониваю я, какую классную гулянку вы можете закатить. Одна дома, никого нет. Позови хоть всю школу, говорю я. Оторвитесь по полной. Пусть народ курит, танцует, все крушит и веселится. В молодости полезны такие гулянки, говорю я, такие праздники. Человек проносит их с собой через всю жизнь, они делают человека человеком. И вспоминать ты, придет время, будешь не пятерки за школьные доклады, а как вы зажигали. Нет, она мне не верит. Ну хоть маленький праздничек себе устрой, уговариваю я. Сама подумай, девочка. Дом в полном твоем распоряжении. Это редкое везение. А на другой день можешь прийти ко мне в палатку, проспаться, поесть лосятины. Она как-то странно смотрит на меня.