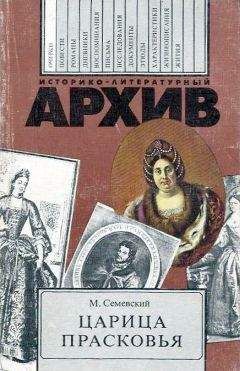Будто не знаете… Тетка эта. Научилась одеяла стегать да вязать, вот и говорит: я — мама». А то пойдет наверх к хозяину нашему, к председателю Розину. «Дядя Розин, как бы эту тетку выгнать? Ведь из-за нее моя мама не придет. Письмо давно пришло, что мама освободилась, а все не идет».
Розин говорит: «Ну, давай, ты придумывай, как ее выжить. А я тебе помогу».
Заревел: «Я придумал». — «Ну, и чего ты придумал?» — «Да свеземте в город этого парнишку, Женьку. Она за ним пойдет, да уж и не придет больше». Да… А я как пришла, так без работы уж не сидела. В Кузьминском-то. Неделю прожила, а война-то, сорок первый год. Всех забирают. А ни у кого ни носков, ни теплых варежек. А председатель сельсовета говорит: «Наша Шура приехала Скорее ее никто не сделает и лучше не сделает. Несите к ней. Она и берет буханку хлеба за пару». Мне и потащили. А у меня как сутки — так пара и вылетела. Коля, бывало, щиплет шерсть.
А я ночью напряду, я прясть быстро. Шестьдесят восемь пар связала в зиму-то. Я уж себе и шерсти заработала Себе валенки скатала и Коле скатала На Пасху нам скатали. И постелей ведь у нас не было. Мария одно: «Все твое украли». А я бабам говорю: «Принесите мне куделей из гребей».
Они мне двадцать шесть куделей и принесли. Я весь этот лен опряла да две постели и выткала Живем… А тут у них в школе техничка спилась. Ее и посадили — на работу не ходит… Мария у меня ушла гулять с Колей. Он все с ней ходил. А я сижу, вяжу чего-то. Приходят ко мне учительницы две: «Поступай к нам в технички. Посадили Параню, техничку. Два года ей дали.
Она уж который день на работу не выходит». Тогда ведь строго было. «Завтра, — говорят, — приходи принимать». — «Ладно». Я и довольна. Паек мне тут давать будут, карточки. На себя и на ребятишек. Потом на меня одну давали — триста грамм. И жить тут я в школу на квартиру перешла. Я за всякую работу бралась — я ведь с детства не наважена. И домовничала, и в огородах работала. Была у нас там Маша-Гаша. Тоже ходила работала, помогала, как и я. Она в девках деток наносила. С мужиком тут жила. И работу она делала хорошо, только за ней трое деток идет. И она везде садится за стол, и они трое. Скажет: «Садитеся». И деток своих садит.
Так вот ее накорми да их накорми. В такое-то время. Вот и не стали ее брать никуда. А я все одна ходила, пошто я в люди деток поведу? Меня и брали. На Пасху по девять изб я мыла. Тогда и крынка молока больно дорого стоила. Я премоюсь, принесу деткам домой крынку молока, да еще и кусок хлеба. Наедятся. Это большое дело было. Бог нигде не оставляет. Так и живем… А Коля меня все мамой не называет. Целый год. А тут заработала я хорошей пшеничной муки. Уж и не помню за что. И напекла я нам пшеничных пирогов. Сели есть. Я ему отрезала середку пирога. Он попробовал: «Ой, мама, я ведь и не ел такого-то пирога». Первый раз мамой назвал.
Ладно, хорошо… Дожили до лета. А на Иванов день пришла из Телепшина мачеха его — Мария.
«Ивана-то, мужа-то, — говорит, — убили». Погостила она у меня. А Коля с ней даже и не поздоровался. А на прощание я подаю ей полпирога У нее ведь ребятишки. А Коля подошел к ней да и вырвал пирог-то. Мне говорит: «Ты, мама, видно, меня не жалеешь нисколько». Я говорю: «А чего? Надо ребятишкам-то». — «А ты знаешь, — говорит, — они у меня все вырывали, убирали мой хлеб». А она тут: «Ой, дурак, ой, дурак, ой, дурак». — «Ничего, — говорит, — не дурак». А я ему говорю: «Отдай это. Алешке да Люське — хлеба-то пошли им». А голодовка страшная, целыми семьями умирают… Вот пошла я в церковь ко Спасу.
Тут от Кузьминского семь километров. Я уж и службу там правила Прихожу из церкви. Мария Михайловна, учительница, говорит: «Шура, подавай в суд». — «Чего?» — «У тебя обыск делал Хазов». А это сосед наш, у школы жил. Он меня сразу невзлюбил. А я: «Да хоть каждый день делай, я не запрещаю. Ты же знаешь, я не запираю». Это он колосков у меня срезанных искал.
Тогда за колоски-то сажали. Без разговоров. Смотрю, он и идет. А вчера, я сама видела, евонная дочь весь день колоски срезала Я говорю: «Иван Петрович!» — «Чего?» — «Ты ведь ошибся обыск-то делал». — «Почему?» — «Потому что у тебя надо обыск-то делать». — «Как это? — такая мать», — изматюгался… «Так, — говорю, — у тебя дочка вчера весь день колоски обрезывала Я все видела. А мы никто не сорвали и колоска Пожалуйста, ищи у меня хоть каждый день». — «Так чем же ты кормишься?» Я говорю: «Обо мне три прихода молятся, чтобы не умерла. А об тебе три прихода молятся, чтоб ты скорее подох». А потом они правда все умерли — и жена, и он, осталась одна сноха. Ведь семьями у нас умирали… А я тут еще и заболела — операция была у меня. Нельзя мне стало техничкой работать, так дом в Михееве — по соседству — купила. Восемь лет в своем дому жила. Михеево от Кузьминского полтора километра Тут все деревни рядом — Михеево, Горка… Это тот дом, что я за машину выменяла, за швейную. Хорошая у меня машина была… А в Михееве я пасти стала. Порядилась.
За двенадцать пудов хлеба и за пятьсот денег. Сто двадцать четыре головы да телята.
Там все вместе — и деревенские, и колхозные. И потом выговорила, чтобы мне избу покрыть соломой.
Ну, и кормить, конечно, кормили. И летом двадцать килограмм муки на месяц. И молока литр в день — пока пасешь… Ну, я поряжаюсь, в первую очередь говорю: «До Егория, какая угодно будет погода — не выгоню». А бывает, и кормить-то нечем… «Надо — выгоняйте, до Егория пасите сами. А в Егорьев день я схожу в церковь. Я — именинница. Себе молебен — царице Александре, скотине молебен — великомученику Георгию. Водосвятный». Они деревней соберут денег на водосвятный-то молебен, принесу им всем воды бидон. Им дам — в дому каждый окропит, а потом всю скотину окроплю — и колхозную, и ихнюю. Это — на второй день. Говорю: «Кто будет пускать телят с коровами сейчас, пока не окропила…» Беру крест, беру икону Георгия, три раза стадо обойду… «Ну, теперь, — говорю, — скотину в поле не бейте — вы не хозяева Бог пасет у меня… Ээй!» — и скотина за мной вся. Я никогда и не ходила сзади скотины. Все вперед, и вся скотина за мной. Весь день за мной и ходят. У нас и дома ни Тятя, ни Мама скотину никогда не били. А весной у нас скотина выгонялась, как вымытая.
Ведь у Тяти такое место соломы было — по двести суслонов ржи. В неделю раз он во дворе стелет солому. И стелет сам, рядами. И навоз потом легко вывозить. Соседи, бывало, Маме говорят «Ты, Пелагия Автономовна, чего-нибудь да знаешь. Слово какое. Вон как скотина твоя домой бежит». А Мама: «Знаю, знаю. Как же не знать? Вот по ведерку им припасу пойла, да еще муки туда подсыплю, отрубей. Вот они бегом и бегут». И никогда мы не бегали за скотиной. А у нас-то там, на Водоге в колхозе скотницы — гонят их, да с матом, с батогами. «Ой, — кричат, — Шура, помоги загнать». А я: «Только отойдите вы. — И скотине: — На место, милые, на место. Вон твое место. Беги на место». Они зайдут… И они тоже говорят «Ты чего-то знаешь». И председатель колхоза Павел Тараканов тоже… Я ему говорю: «Вот я у вас сколько годов пропасла, и ни одна скотинина не пропала». А он: «Ну, дак ты со словами». — «Ах, я со словами?» — и не пошла к ним больше пасти. Он потом приходит, зовет. А ему: «Ты ведь партийный человек, председатель. Как тебе не стыдно это говорить?» — «А почему?» — «А потому, что мертвый потонул. Никаких слов у меня нет». Женька мой обойдет с крестом да иконой весь выгон. Георгий Победоносец — иконка. Потом на елку ее тут повесим.
Так она там и осталась. Три раза так обойдем. Как мы начали пасти, так Женьке еще восемь годов было.
Бывало, побежит за коровой, ругает ее, чуть не плачет «Ты страшная… на рукомойник ты похожа. Ты погляди на себя — какая ты есть. Ты — дура!» Да и заревет. А быки-то его любили.
Бык Фомка все ходит по выгону, ищет, где Женька лежит. Найдет его, так рядом и шлепнется. А Женька из него все вытаскивал каких-то гадов… Толстые, а голова тонкая. Всех их вытаскал у него… У меня ведь ребятишки не воровали, так их все люди жалели, все их любили. Бабушка Варвара Коле говорит. «Ты уж ко мне почаще ходи. Вот бы надо матери твоей сходить одеяло отдать выстегать, да мне не дойти». А он: «Выстегаем, баба Варя, я умею». — «Как ты умеешь?» — «Да так. Я ведь видал, как мама стегает. Давай выстилай». Наметил: «Выстегаем, баба Варя, сами… не понесем». Он уже у меня в Колодине учился… Вот и выстегали. Она его неделю кормила. В такое-то время… А то у меня соседи Куликовы были. Эти все воры. И мать, и отец, и три парнишки. А она все говорит «Какие у меня ребята путные — все в дом тащат».
А я ей: «А я своих за эту путность убью. На ногу встану, за другую раздерну». — «А у меня все несут». Я говорю: «Анна Александровна, у тебя огород-то вон какой большой. Неужели тебе своего луку не насадить? Больно он недорог». А тут ребятишки по ночам воровать идут. Так и батька ходил с мешком за зеленым-то луком. А как выросли они, так все и по тюрьмам, так уж и не выходили.
За хулиганство, за воровство — все три сына. А я тут пошла домовничать за полкилометра. А у меня мешок пшеницы был, за пастушню заработанный. Утром прихожу — отперто у меня. Я сразу в чулан — мешка нет. Я побежала к соседу Володюхе: «У меня мешок пшеницы украли».