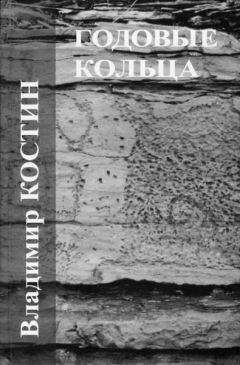А дома нет, отправилась в баню. Она Рождество так празднует: сходит в баню, возвращается не торопясь, заваривает древний чайничек и часами пьет чай с дунькиной радостью. Ей нипочем, у нее зубы бобровые… И целый день отдыхает, думает.
— И весь ее праздник? — усмехнулся я.
— Нет, не весь, — ответила хмурясь Лялька, — разговариваем о медицине. Она все учебники мои перечитала, предметы лучше меня знает. Укол сделать, банки поставить — мне ее сноровка и не снилась. Старухи здешние все к ней идут, меня в упор не ставят… Вообще-то обидно.
— Еще бы не обидно, — задохнувшись, поддержал я, заходя за ней в дом и снимая с нее шапочку, куртку и валенки. И свитер, трико и шерстяные носки. Я стоял на коленях и целовал ей ноги и трусики. Лялька гладила меня по голове и плечам вздрагивающими руками. Райские яблоки.
С улицы донесло едва слышный перезвон колоколов. Мы переглянулись.
— У них колоколов недодано, и они слабенькие. Им не разрешается громко звонить, — сказала Лялька, — подожди меня.
Она зашла в бабушкину комнату, притворив за собой дверь. Но я не переставал видеть ее плавные ноги с босыми высокими ступнями, голубые трусики, не прикрытые короткой черной сорочкой.
Дома очень светло, очень тепло и очень чисто.
— Видишь, какой платочек? Ему сто лет, он дворянский, наверное, кавалергардовский. Бабуля его в старом комоде нашла, — сказала, не доходя до меня, Лялька. Она держала его за углы, сдвинув коленки.
Платок был белый до серебряного, квадратный, в золотом обводе, в уголке некий орнамент из золотых ниток. Тонюсенький, должно быть, это и называется батист. Но странно (странно, зная Агафьин обычай): он выглядел несвежим, нестираным, и гладили его три жизни назад. Не о пятнах речь — о какой-то бледности, которой не пыль виной, а залежалость в темноте между чем попало.
Лялька поднесла платок к лицу:
— Мы поцелуемся через него. Ты подойди, возьмись за него тоже и целуй.
Я подошел и взялся. За платочком темнело ее лицо, лишенное любимых подробностей, но чудно выделялись губы, промокнувшие полотно.
Поцелуй получился торжественный и пресный, мы оба словно видели себя со стороны.
И мы пошли в Лялькину комнату, останавливаясь и замирая на каждом шагу.
Бабушка прибыла час спустя. К счастью, она долго и шумно отряхивалась и обивала снег с валенок на крыльце.
— Не баня, а свинарник, — прорычала она, гневно махнув рукой и не отвечая на мой робкий привет, — кругом хавроньи с пятаками!
— Ты всегда так говоришь и всегда туда ходишь, — дерзко сказала Лялька.
Агафья услышала стук маятника Она развернулась к внучке всем телом, открыла рот, закрыла рот, ударила меня взглядом и, заложив руки за спину, карикатурно вскидывая ноги, пошла в свою комнату.
Дошла там до окна, вернулась к порогу и ме-едленно, в явном бешенстве, вставила дверь в косяк.
АГАФЬЯ: За краны мясник Христолюбов отдарил меня полумертвым цыпленком. Годом раньше в пригороде поставили птицефабрику, и он отоварился десятком инкубаторских цыплят, полуторамесячных, приготовленных уже к ножу. Их откармливали там очень скаредно, комбикормом и разной химией, чтоб не передохли в тесноте, в темноте. Они были тощие, сизые, боялись света и травы.
Мне Христолюбов дал самого несчастного, обезноженного и забитого сокамерниками. Жизнь в нем угасала на глазах. Я заторопилась его накормить, а он не ест. Сидит, тянет шейку, а не ест. Не сразу догадалась, что он боится: моих движений, проехавшей за окном машины, блюдечка, темного цвета пищи. Сварила ему яйцо, положила на землю — заклевал, сначала вяло, потом приелся и начал икать. Побежала за водой, возвращаюсь — а он спит, повесив лысую голову набок. Проспал три часа, и началось все сызнова — всего боится, сутулится от простора, жмурится от света.
Пошел лишь на четвертый день, но пользовался ногами только для того, чтобы спрятаться, забиться в темное грязное место. И никогда не подавал голос, онемел от ужасов фабричного детства.
К Новому году, когда мы его съели, он прилично откормился, но бесповоротно сошел с ума. Не оставалось лазеек, где бы он мог, большой и неповоротливый, спрятаться, и он безобразничал, валялся по двору и по дому, как пес, засовывая голову под крыло. Я называла его «член ячейки», и Лялька на меня сердилась.
ЛЕТЧИК (из письма): «…красавица, строгая, манеры королевские. Встретился взглядом — и пропал. Мы все трое в нее влюбились, но я сильнее всех. И я ей больше всех понравился, понятно, военный летчик, и внешностью не был обижен. Влюбился, расхвастался, не скрою: хотел впечатление произвести. Но ведь не врал, не брал на себя лишнего. Я ей рассказывал про полеты, про то, что весь наш СССР, от Камчатки до Колы, повидал из стратосферы. Летишь ночью на БД, на горизонте зорька не сходит, а под тобой насыпано огней: «Привет, Павлодар! Наше Вам, Свердловск! Доброе утро, Горький!».
Экзюпери ей пересказывал, знаете о таком писателе-летчике? Конечно, не забыл, что с Юрием Г. в одном училище учился, курсом младше, что чуть по его следам не попал в Отряд. Но не скрыл и того, что забраковали меня, по психологическим показаниям: выдержки не хватало и контактные параметры были у меня не очень.
Песни пел про машины, на которых летал над Тихим и Ледовитым океанами. Про них в газетах обиняками пишут: лучшие в мире крылья!
Но с собой сразу не звал, боялся все испортить. Думал: через четыре месяца отпуск — вот тогда, если дождется, позову. Нет, это она сама сказала: «Забери меня с собой, ни минуты в этих болотах не смогу прожить, руки на себя наложу». Я тогда не знал, что руки на себя наложил ее муж, куда как с ее участием! Честно ей сказал: разберись с собой, можешь заскучать — офицерское общежитие, край земли, Баренцево море кому стихия, а кому — холод, мозглота и ветер, до костей пробирающий. А сам, естественно, горю-пылаю. «Забери, повторяет, не пожалею!»
Забрал с радостью, гордостью. Удивлялся, что Вера меня к вам не допустила, к дочери, но доверился: раз она так решила, стало быть, знает, что делает.
Не прошло и полгода, как разонравилась ей романтика Севера, опротивели мои басни про моря и острова, льды и птичьи базары. Узнал я, что я «бульбашонок», «простота» и «солдафон». Ладно, «бульбашонок» — я с Витебщины, сирота военный, деревенский. А «солдафон»? Это я-то, военный летчик, в жизни не повысивший голос на младшего по званию? И про «контактные параметры» так ловко на свой лад перевернула, что я боялся, семижды не отмерив, у нее даже чаю попросить. Хамила и хамила, до того, что у меня в глазах темнело. Началась у меня бессонница.
А она перестала готовить, стирать, мыть посуду. С утра до ночи лежала на тахте, запираясь от соседей на ключ, и крутила пластинки зарубежных исполнителей — Д. Марьянович, Р. Караклаич, К. Готт.
Ходил взъерошенный, чумной, выжидал, терпел, а она злилась, что я такой терпеливый, «вежливый тюремщик».
Пришел к выводу: дело в нехватке общения, отсутствии занятия. Нашел ей работу, с превеликим трудом ее сыщешь в военном городке. Думал, тучи разойдутся: работа легкая, в ГДО, зато на людях, на виду. А она немедленно в истерику: «Не пойду! Я с этими шлюхами, которых вы на танцплощадках да в кабаках подбираете, общаться не намерена!» Забыла, что и мы с ней не на выставке Репина познакомились.
Все ждал, надеялся, что это поможет, когда мы заберем у Вас дочку. Просил ее ежедневно, ведь Олечка теперь и моя дочь. На это она не грубила, но упорно отказывала, отрезала: «Нет, не время. И бабушка просит не торопиться (не помню, чтобы она Вам писала, чтобы Вы ей…), и нам с ней в общежитии, на 14-ти метрах, будет тяжко».
В конце-то концов, прошу ее, пусть бабушка хотя бы фотографию вышлет. И она, улыбаясь, подает мне однажды снимок хорошенькой девочки в колясочке: это Лялька! Вспомнил я ее улыбку, когда потом, случайно — одна женушка постаралась — выяснилось, что фото это чужое Вера выпросила в ателье, когда прошвырнулась в Мончегорск.
И тут наш недолгий брак как раз и распался. Приехал один генерал с хозинспекцией, любитель бегать трусцой, вдовец. Человек подлый, рассказывали, что его, молодого, в 45 году, в Берлине, хотел расстрелять за мародерство генерал Берзарин, но неожиданно погиб, и дело замяли. Не успел я сообразить, с чего это Вера вдруг забегала по утрам, а уже сижу у разбитого корыта. Уехала она с пузатым стариком, сбежала.
Живет она теперь в Подмосковье, в закрытом поселке МО, ездит на «Волге», воспитывает его детей, которые ей ровесники. Извините, но думаю, что Вы об этом от меня и узнали, не верю, что Вы ее с тех пор видели, получали от нее письма.
Если ей это подходит, не возражаю, не говорю про предательство. Предать можно Родину и родных. Ваш вопрос. Не то обидно, что разлюбила, она и не любила никогда, так, увлеклась, развлеклась на малый миг. ее право. А то страшно, что унизить, растоптать человека для нее что умыться или причесаться.