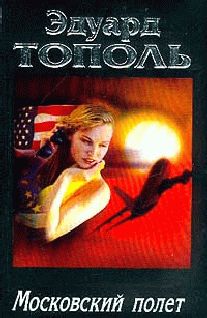– Это не концерт, – громко ответила шатенка. – Это репетиция. У нее режим – она должна каждый день заниматься, сейчас как раз время ее урока.
Они стояли друг против друга: прямая, как штык, женщина – офицер таможенных войск КГБ в сером кителе с натертыми до блеска пуговицами и сутулая шатенка в рыжей куртке из кожзаменителя и в стоптанных сапогах. И между ними – пятилетняя девочка с маленькой скрипкой на плече и замершим в воздухе смычком. А они, две взрослые женщины, все смотрели друг другу в глаза – долго, упорно, с ненавистью. Несколько иностранцев стояли в стороне и ждали, чем это кончится.
На настенных часах было 12.20, через двадцать минут мы должны были улететь в эмиграцию, это были наши последние минуты на советской земле.
– Это вам объявили посадку? – спросила у шатенки женщина-капитан.
– Да!
– Вот и летите! Там будете концерты давать.
– Да! – победно усмехнулась шатенка. – Там будем концерты давать! Для того и летим.
Женщина-капитан ничего ей не ответила. Она взяла у ребенка скрипку и смычок, осмотрела пломбочки на них. Все было в порядке, не придерешься – маленькие свинцовые пломбочки с печатью Министерства культуры СССР висели на тонких стальных проводках, обжимая гриф скрипки и смычок, как маленькие кандалы. Капитан положила скрипку и смычок в футляр и ушла, бросив косой взгляд на иностранцев, стоявших рядом.
"Заканчивается посадка в самолет, следующий рейсом номер 228 по маршруту «Москва – Вена», – снова прозвучало по радио.
Боже, подумал каждый из нас, неужели сейчас мы действительно улетим от всего этого? От проверок, досмотров, запретов и фашистских охранников этого коммунистического рая?
Девочка взяла свою скрипку и пошла с матерью к выходу на посадку. Но здесь был затор. Оказывается, наши испытания еще не кончились. Оказывается, даже здесь, в последнюю минуту уже при выходе на посадку нас подстерегает еще одна ловушка таможенной службы. Таможенники, стоявшие при арке микроволновой проверки на металл, остановили молодую актрису.
– Стойте! Что у вас на руке?
– Как что? Обыкновенное кольцо. Обручальное.
– Но вы же едете одна!
– Да, я развелась с мужем. Но вывезти кольцо я имею право.
– Нет, это контрабанда.
– Какая контрабанда? Что вы! Нам разрешено иметь при выезде пять женских украшений не дороже 250 рублей.
– Это кольцо стоит дороже.
– Что вы! Оно стоит 120 рублей.
– У вас есть справка из магазина? Ах, нет справки? Значит, вы не летите. Мы снимаем вас с рейса за провоз контрабанды.
– Но у меня же билет!
– Это нас не касается. Можете оставить кольцо и лететь. Иначе – нет.
Что делать? Что делать людям, когда у них уже отобрали все еще раньше, а самолет на Вену – вот он, за окном и до отлета всего восемь минут, а эти молодые таможенники смотрят на вас спокойными глазами мародеров? Да подавитесь вы этим кольцом, нате!
И красивая актриса, ломая пальцы и морщась от боли, рвет кольцо с тонкой руки и швыряет им, собираясь идти наконец на посадку.
– Нет! – усмехаются они. – Это не все. Раз вы отдали кольцо, значит вы признали, что это контрабанда. И в таком случае платите штраф за попытку провоза контрабанды – сто рублей. И спешите, самолет сейчас улетит. А за вами люди стоят…
– Но у меня нет рублей! – отчаянно восклицает актриса. – Откуда? Ведь советские деньги нельзя вывозить!
– Платите долларами. Вы же поменяли на доллары девяносто рублей. Вам дали за них в банке 136 долларов. Вот и платите 136 долларов. И быстрее, мы из-за вас самолет задерживать не будем. Давайте ваши доллары, быстро!
И растерянная актриса какими-то заторможенными, как в ступоре, движениями, отдает им последние деньги, а они прячут за щеки свои ухмылки, а в карманы ее кольцо и ее доллары. И если вы не были ярым антисоветчиком до отлета, то вы станете им в эти дни, когда это «прекрасное» государство уже не стесняясь показывает вам свое истинное лицо мародера. А часы идут – шесть минут до отлета, пять… Мы нетерпеливо топчемся у спуска на летное поле, как вдруг на лестнице, ведущей из таможенного зала, появляется странная процессия: два грузчика, сцепив руки замком, несут сидящую на их руках 90-летнюю старушку, седую и легкую, как одуванчик. Они вносят ее на второй этаж, сажают в кресло, подходят к таможенникам и объясняют, что старуха летит к своим детям в Израиль, но она парализована, вот справка от врача, а вот квитанция об уплате за сервис – они отнесут се прямо в самолет. Конечно, мы все понимаем, что эта старушка заплатила грузчикам бешеные деньги за этот «сервис» и они поделят эти деньги с таможенниками. Потому таможенники согласно кивают, грузчики возвращаются к старушке, берут ее на руки и вне очереди, впереди нас всех, несут ее на посадку.
Но когда мы выходим за ними на летное поле, а потом подъезжаем автобусом к самолету и до трапа остается десять шагов, старушка-одуванчик вдруг властно останавливает своих носильщиков:
– Отпустите меня! Отпустите!
Недоумевая, они приспускают ее к земле, а она вдруг с мучительной натугой разгибает свои тонкие парализованные ножки, становится на них и идет шатаясь к самолету. Мы бросаемся к ней, боясь, что она упадет, кто-то подхватил ее под локоть, но она отнимает свой сухой старческий локоток и говорит жестко:
– Не надо! Я сама уйду с этой земли! – И сама, поверьте, сама – мы только шли по бокам, страхуя, – поднялась в самолет по трапу.
Господи, подумал я, какую же силу ты даешь порой этому маленькому народу и какую же ненависть надо было скопить к этому государству, чтобы он мог вот так разогнуть парализованные ноги и встать наконец и уйти с этой земли!…
* * *– Hay, you! You are workin hard [Эй ты. Надорвешься]! – Отжимаясь от земли, я увидел перед собой шнуровку тупоносых черных ботинок и задрал голову вверх. Надо мной, заслонив солнце, стоял полицейский в отглаженных брюках; на его широком поясе висели пистолетная кобура, резиновая дубинка, коробка с патронами, уоки-токи, стальные наручники и кожаный планшет…
– В чем дело? – спросил я, не вставая.
– Встань…
Я встал, краем майки утер пот со лба. Полицейский был выше меня на голову и вдвое шире в плечах.
– Твое гражданство?
– США. А в чем дело?
– Ты живешь в этом районе?
– Да. На 180-й улице. А что?
– Ты видел этого мужика? – полицейский достал из планшета фоторобот – портрет не то негра, не то испанца.
– No, – сказал я.
– Посмотри внимательно! – приказал он.
– Тут не на что смотреть. Вы даже не знаете, он черный или испанец.
Полицейского это озадачило:
– Откуда ты это знаешь?
– Глянь на эти губы, – сказал я. – Это губы черного или испанца?
Полицейский посмотрел на фоторобот.
– Well… – сказал он в затруднении. – Н-да… Кажется, ты прав. Ты кто по профессии?
– Я писатель.
– Писатель? Если ты писатель, чего ты надрываешься этими упражнениями?
– Я собираюсь в командировку в Россию.
– Ясно. У них там столько же преступности, сколько у нас?
– Больше.
– Да ладно! – не поверил полицейский. – Я видел Горбачева по телику. Он замечательный мужик, не так ли?
Я поглядел на полицейского снизу вверх. Ему было лет сорок, у него была красная шея и конопатое лицо охайского фермера, но акцент негритянский – скорей всего, от постоянной работы в Гарлеме. Прочесть ему лекцию о России и Горбачеве или не ввязываться в дискуссию? Эти американцы знают о России столько же, сколько я о Тунисе или Индонезии.
– Может быть… – сказал я уклончиво и кивнул на фоторобот, который полицейский уже прятал в планшет. – А кто это?
– Насильник и перевозчик наркотиков. А наркотики есть в России?
– Конечно. Наркотики, насильники, грабители, рэкетиры и даже мафия. И плюс – КГБ.
– Так почему ж ты едешь туда в таком случае?
– Я должен.
– Ладно. Желаю удачи. Только будь там осторожен.
– Thanks, – сказал я и побежал домой – через туннель, в котором валялся черный бродяга с вывалившимся из ширинки членом… по загаженной бетонной дорожке вверх – мимо разворованных и сожженных автомобилей… по 180-й улице, мимо ватаги черных и испанских подростков, которые при красном семафоре стремительно набрасываются на машины и мыльной пеной замазывают им стекла еще до того, как водители успевают сказать, нужно или не нужно мыть им машину… Потом, задыхаясь, я взбежал по пыльной лестнице дома, где я теперь жил у Максима, – мимо груды мусорных мешков на каждой лестничной площадке…
Еще не вставив ключ в замочную скважину, я услыхал изнутри телефонный звонок. Никто не снимал трубку – Максим еще в шесть утра ушел на утреннюю церковную службу. Второй звонок, третий. Наверно, это Лиза по поводу денег или у Ханочки простуда. Быстрей!
Наконец я открыл три замка на обшарпанной двери, вбежал в квартиру, огляделся – где же этот f… телефон? С некоторых пор я обнаружил, что стоит мне поговорить пару минут по-английски, как я и мысленно перехожу на английский язык, и особенно на английский мат.