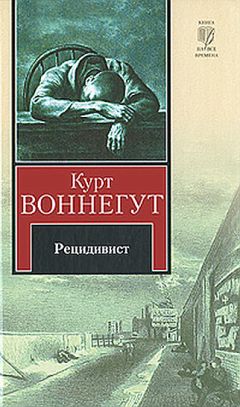«Молодежь по-прежнему отказывается осознать невозможность всемирного разоружения и экономического равенства тчк не исключено всему виною Новый завет (см.) тчк
Уолтер Ф. Старбек, специальный помощник президента по делам молодежи».
Закончив очередной свой бесплодный день в кабинете этом, я отправлялся домой, к жене, которая у меня всю жизнь была однаединственная, к Рут то есть — она меня ждала в нашем крохотном таком кирпичном бунгало, Чеви-Чейз, штат Мэриленд. Она у меня еврейка (я — нет). Наш единственный сын — он книжки рецензирует в «Нью-Йорк тайме», — стало быть, наполовину еврей. В конфессиональные и расовые дела он внес дополнительную путаницу, женившись на певице-негритянке из ночного клуба, у которой двое детей от предыдущего мужа. Предыдущий муж тоже в ночных клубах выступал, он конферансье, а родом пуэрториканец и звать его Джерри Ча-Ча Ривера, — пристрелили его, подвернулся под руку, когда происходило ограбление принадлежащей корпорации РАМДЖЕК автомобильной мойки в Голливуде. Сын мой детей на себя записал, так что по закону они теперь мои внуки, единственные мои внуки.
Такова жизнь.
Покойная моя жена Рут, бабушка этих детей, родилась в Вене. У ее отца там антикварная книжная лавка была, пока нацисты не отобрали. Рут шестью годами меня моложе. Отец, мать, двое других детей из их семьи погибли в концлагерях. Саму ее одна христианская семья прятала, но потом раскрылось это, и в тысяча девятьсот сорок втором ее забрали вместе с главой этой семьи. И она тоже попала в концлагерь, который был под Мюнхеном, два последних года войны там провела, пока не пришли американцы и этот лагерь не освободили. Рут умерла в тысяча девятьсот семьдесят четвертом — у нее, когда она спала, разрыв сердца случился, это было за две недели до моего ареста. Меня куда жизнь ни кинет — бывало, и в совсем уж неподходящие места, — Рут туда же, со мною вместе, если только сможет. Иной раз не удержусь, удивляться этому начинаю, а она мне: «Как же подругому? Мне-то что делать остается, ты как думаешь?»
А вообще ей бы переводчицей быть, прекрасно это у нее получалось. Языки она выучивала с невероятной легкостью, куда мне до нее. Я после второй мировой войны четыре года в Германии находился, но немецким так и не овладел. А Рут — не было такого европейского языка, на котором бы она не говорила, хоть немножко. В концлагере, к смерти приготовившись, все свое время проводила вот как: просит других заключенных научить ее их языку, если она его не знает. Так она по-цыгански начала свободно объясняться, выучила этот цыганский говор, и даже на языке басков несколько слов могла сказать — по их песенкам запомнила. А может, ей бы лучше живописью заняться, портреты рисовать? В лагере она и это дело освоила: пальцы сажей вымажет, которая нагорела на фонаре, и рисует сокамерников на стенке, старается, чтобы вышло похоже. Еще могла бы она стать отличным фотографом. В шестнадцать лет, за два года до того, как немцы Австрию аннексировали, она сняла фотоаппаратом сотню венских нищих, они все до одного были покалеченные ветераны первой мировой войны. Снимки эти потом продавали альбомчиком, я отыскал недавно один такой — где бы вы думали? — в нью-йоркском Музее современного искусства, от изумления у меня просто в сердце закололо. Ко всему прочему Рут и на пианино хорошо играла, а мне слон на ухо наступил. Я даже «Просеивает Салли» как следует напеть не сумею.
Короче говоря, по всем статьям я своей Рут уступал.
Когда в пятидесятые-шестидесятые дела у меня пошли совсем скверно, когда, несмотря на бывшие свои высокие посты в правительственных учреждениях, несмотря на все знакомства с важными людьми, мне не удавалось найти приличной работы, Рут — а кто же еще? — вытащила из пропасти наше маленькое и не слишком популярное в Чеви-Чейз, штат Мэриленд, семейство. У нее поначалу два раза не получилось: очень она было расстроилась, но потом над неудачами своими смеялась так, что слезы из глаз. Первая неудача вышла, когда она устроилась в коктейль-холле тапером. Хозяин этого заведения, когда ей расчет давал, говорит: уж больно хорошо она играет, не для такой публики это, «они ведь что поизящнее оценить не в состоянии». А второй раз не повезло, когда Рут взялась фотографировать на свадьбах. Снимки у нее мрачные какие-то выходили, словно завтра война, и ни один ретушер тут ничего не мог поделать. Впечатление такое, что вот веселятся, а завтра вместе с гостями в траншеях очутятся или в газовой камере.
Тогда Рут дизайном занялась, рисовала акварелью красиво обставленные комнаты и возможных клиентов приманивала: хотите, у вас такие же будут, уж постараюсь. Я-то всего лишь ей пособлял неумело, драпировки развешивал, демонстрировал на стене образцы обоев, записывал, что клиенты по телефону передадут, бегал по разным поручениям, подбирая ткани по лавкам, и так далее. Раз как-то спалил рулон бархата на обивку, больше тысячи он стоил. Понятно теперь, почему наш сын никогда ко мне уважения не испытывал.
Да и с какой, собственно, стати?
Бог ты мой, мать-то из сил выбивается, чтобы семья удержалась на плаву, каждый цент считает. А папаша, безработный, вечно всем только мешает, сам ничего не умеет, да еще из-за этого его курения рулон обивочной ткани сгорел, который стоит целое состояние.
Он, видите ли, в Гарварде обучался! Больно оно нужно, гарвардское образование, спасибо за честь!
Рут, кстати, маленького роста была, миниатюрная такая, кожа с медным отливом, волосы черные, прямые, на лице скулы выпирающие, а глаза запавшие, глубоко посажены. Когда я ее впервые увидел в Нюрнберге это случилось, в тысяча девятьсот сорок пятом году, — она была в армейских штанах и гимнастерке, сидевших на ней мешком, и принял я ее за цыганенка. Мне тридцать два в тот год стукнуло, я на армию работал, но сам был штатский. Все еще неженатый. Штатским я оставался всю войну, но власти у меня, случалось, побольше было, чем у генералов с адмиралами. И вот попал я в Нюрнберг, первый раз увидел, как война все раскурочила, — глазам не поверишь. Меня командировали проследить за размещением и питанием делегаций союзников — американцев, англичан, французов, русских, когда трибунал начнет судить военных преступников. До этого я на разных курортах в Соединенных Штатах устраивал восстановительные центры для наших солдат, понаторел в этих делах, с отелями связанных.
С немцами я как диктатор должен был держаться, когда дело касалось продуктов, напитков там и номеров в гостиницах. Был у меня служебный автомобиль, белый мерседес, для экскурсий предназначенный — с откидным верхом, четыре дверцы, по ветровому стеклу что спереди, что сзади. Сирена на нем установлена. А над передними колесами дырочки для флажков. Я, понятное дело, американский флажок закрепил. Молодые скажут: ну и машина, такая разве что во сне пригрезится, — а на самом деле ее к годовщине свадьбы в доброе мирное время подарил супруге Генрих Гиммлер, придумавший концлагеря. Куда ни поеду, шофер меня везет, он же охранник. Если не забыли, отец мой тоже шофером-охранником у миллионера был.
И вот катим мы как-то августовским полднем по главной улице, по Книгштрассе. Трибунал, который военных преступников судит, в Берлине собрался, но переедет в Нюрнберг, как только я все что нужно тут приготовлю. Улица еще там, сям мусором всяким завалена. Пленные немцы расчищают полосу движения, а за ними американская военная полиция присматривает, да так строго оказывается, негритянскому подразделению это дело поручено. Тогда в армии у нас еще сегрегация была. Либо сплошь черный полк, либо сплошь белый, это не считая офицеров, потому что офицеры все равно почти всегда одни белые. Не скажу, чтобы мне это тогда чем-то странным казалось. О черных я вообще ничего не знал. В особняке Маккоуна черной прислуги не было, и в школах моих кливлендских черных тоже не было. Даже когда я коммунистом стал, ни одного черного среди моих приятелей не появилось.
У церкви Святой Марты на Книгштрассе — крыша снесена прямым попаданием бомбы — мой мерседес остановил патруль. Американская военная полиция, белые. Ищут таких, которые не там, где им полагается быть, — цивилизацию-то уже начали восстанавливать по кирпичику. Дезертиров ищут из всех армий, какие ни есть, включая американскую, а также еще не опознанных военных преступников, и свихнувшихся, и просто уголовный элемент, который поразбежался с приближением фронта, и граждан Советского Союза — кого немцы угнали, а кто сам к ним переметнулся, и теперь вот на родину возвращаться для них труба: посадят, а то и к стенке. Но все равно надо было, чтобы русские к себе в Россию вернулись, а поляки в Польшу, а мадьяры в Венгрию, и эстонцы в Эстонию, и так далее. В общем, каждый пусть домой собирается, неважно, что там да как.
Любопытно, подумал я, где же полиция переводчиков берет, мнето вот никак не удается подыскать толковых. Особенно мне нужны были такие, которые по три языка знают, чтобы помимо немецкого и английского могли еще с французами объясняться или с русскими. Да к тому же воспитанные должны быть люди, приятные в обращении, и чтобы я на них мог положиться. Вышел я из мерседеса своего, решил взглянуть, как проводят опросы задержанных. И вижу — ну, дела! — всем мальчишка такой заправляет цыганистого вида. Ясное дело, это Рут была. Ей в санпропускнике голову обрили, чтобы вывести вшей. Штаны, гимнастерка на ней армейские, но ни погон нет, ни знаков различия. Любо-дорого было смотреть, как она с каким-то живым скелетом управляется, которого полицейские привели, — выпытывает, кто он и откуда. На семи языках, кажется, пробовала с ним заговорить, нет, на восьми, и до того легко с одного на другой переходит, совсем как пианист, который пробует разные тональности. И жестикуляция при этом меняется, руки словно другие.