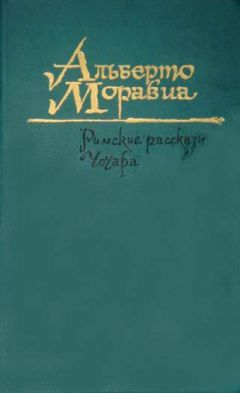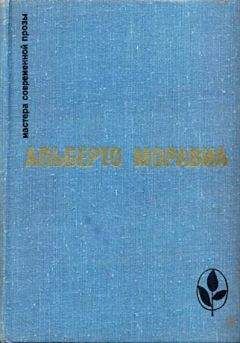Между тем ресторан опустел; кроме нас, в нем оставалась только компания молодых людей за соседним столиком. Они играли в карты, и вскоре к ним присоединились хозяин и повар. Ремо, весь вечер не перестававший шутить с Джеммой и приободренный вином, захотел спеть. Он всегда за десертом вызывался петь; я вовсе не хочу сказать, что он плохо пел, но только песни у него были вечно одни и те же, и мы все их знали наизусть. В этот вечер ему, разумеется, хотелось спеть для Джеммы, которая впервые была в нашей компании, и мы, угадав его желание, согласились послушать. Однако, чтобы вы могли представить, что такое пение Ремо, я должен описать это. Ремо маленького роста, лицо у него смуглое, яркое, низкий лоб весь покрыт черными кудряшками, глаза прищуренные, налитые кровью. И тем не менее, несмотря на эту несколько грубоватую внешность, Ремо, когда поет, не бывает вульгарен, а скорей даже наоборот — слащав. Он берет за руку девушку, которой предназначена его песня, наклоняется к ней и, зажмуривая глаза, сложив губки бантиком, тихо поет страстным, масляным, вкрадчивым голосом. К тому же у всех его песен рифмы очень однообразные: или это «енье» волненье, томленье, мленье, или «ты» — мечты, цветы, красоты. Итак, в этот вечер Ремо по своему обыкновению схватил за руку Джемму и начал ей петь, приблизив свое лицо к ее лицу, а мы все в замешательстве молчали и только смотрели на него. Джемма улыбалась, и эта улыбка ободрила его, — пропев одну песню, он начал вторую. Между тем за соседним столиком тоже замолчали и смотрели на нас; затем оттуда стали доноситься смешки, и наконец один из молодых людей запел, передразнивая Ремо, а другой, спрятав голову под стол, принялся мяукать по-кошачьи. Ремо, казалось, не замечал этого или делал вид, что не замечает. Он запел третью песню, но, поскольку за соседним столиком продолжали смеяться и мяукать, ему пришлось прервать пение, и он с достоинством сказал:
— Хватит, мне, видно, лучше кончить…
Но тут Сирио, которого это вовсе не касалось, неожиданно вмешался:
— Пой… Не обращай внимания на невежественных, невоспитанных людей… Пой.
И сразу же, точно по сигналу, невысокий кудрявый блондин в красном свитере, доходившем ему до самых ушей, поднялся из-за своего столика и, подойдя к Сирио, спросил:
— Кто это — невежественные и невоспитанные люди? Сирио человек очень желчный и никого не боится. Он ответил:
— Все вы!
— Ах, вот как! Почему же это? Ведь мы находимся в ресторане… Это общественное место, и мы можем делать, что нам нравится.
— И мы тоже делаем, что нам нравится… И именно поэтому заявляем вам, что вы, сидящие вон за тем столиком, невежи и дурно воспитаны.
Тем временем хозяин, повар и двое приятелей блондина тоже поднялись и подошли к нам. А мы все за нашим столиком остались сидеть.
Блондин заорал:
— А ты-то кто такой? Что тебе надо? Можно узнать, что тебе надо?
И с этими словами он протянул руку, словно хотел схватить Сирио за галстук,
— Прочь руки, прочь! — заорал Сирио, он тоже вскочил на ноги и оказался носом к носу со своим противником. Сильным ударом он отбросил его руку. Тогда блондин взял Сирио за ворот пиджака и дернул назад. Обе наши дамы пронзительно взвизгнули. Ремо крикнул:
— Перестаньте! Не связывайтесь!..
Прошла какая-нибудь секунда. И вдруг совершенно неожиданно Амилькаре сорвался со своего места, схватил блондина за свитер на груди и, с бешенством нанося ему удары, загнал его в глубь комнаты. Стукнувшись о холодильник и припертый к нему, блондин отбивался, а Амилькаре навалился на него всем телом, словно хотел раздавить. И вдруг мы увидели, как широкая спина Амилькаре откинулась назад, он грохнулся навзничь и остался лежать неподвижно, как колода. Блондин, который оказался боксером, нанес ему короткий удар в подбородок, и нокаутированный Амилькаре распростерся на опилках, покрывавших пол.
Все кончилось так, как и должно было кончиться: полиция записала наши фамилии, дамы плакали, Амилькаре держался рукою за подбородок и все повторял, что не заплатит ни единого сольдо; Сирио, Ремо и я оплатили счет, а хозяин кричал нам из кухни:
— Зачем вы только ходите в ресторан? Сидели бы лучше дома!
Едва мы вышли из траттории, как где-то наверху открылось окно и кто-то выбросил на улицу сверток объедков, угодивший Амилькаре прямо по голове.
— Ах, простите! — крикнул тоненький голосок. — Это — для кошек.
И в самом деле, кошек здесь было великое множество; они сидели и терпеливо дожидались, когда мы пройдем, чтобы приблизиться к свертку. Но Амилькаре, совсем потерявший голову и убежденный, бог знает почему, что это хозяин обстрелял его объедками, все порывался вернуться. И нам пришлось просто силой увести его, а он не переставая ругался и счищал со шляпы рыбью чешую. Одним словом, что называется — провели приятный вечерок.
Летом, наверное потому, что я еще молод и не привык чувствовать себя мужем и отцом семейства, мне всегда приходит охота куда-нибудь удрать. Летом в Риме в богатых домах с утра закрывают ставни, и свежий ночной воздух сохраняется в просторных комнатах; в такой квартире все на месте, все чисто, прибрано, в порядке; в полутьме поблескивают зеркала, мраморные полы, полированная мебель; даже тишина там какая-то прохладная, темная, успокаивающая. Захочешь пить — тебе приносят на подносе вкусный холодный напиток — лимонад или апельсинную воду в хрустальном бокале, и кусочки льда в нем весело звенят при помешивании, так что один этот звук уже тебя освежает.
Другое дело в бедных домах. С первым жарким днем зной забирается в душные комнатушки и все лето оттуда не уходит. Хочется пить, но из крана в кухне течет теплая, как бульон, вода. В квартире негде повернуться. Кажется, что предметы — мебель, одежда, посуда — словно разбухли и так и лезут на тебя. Все сидят без пиджаков, а рубашки все равно влажные и пахнут потом. Если закроешь окно — задыхаешься, потому что ночная свежесть не проникает в эти две-три клетушки, где спят шесть человек; а в открытые окна врывается солнце и приносит все запахи улицы — горячего железа, пота и пыли. С наступлением жары и характеры у людей портятся, все раздражаются по пустякам, ссорятся. Но богатый в таких случаях возьмет да и уйдет куда-нибудь в глубь квартиры, на две-три комнаты подальше; а бедные люди остаются сидеть нос к носу друг с другом перед сальными тарелками и грязными стаканами или же должны совсем уходить из дому.
В один из таких жарких дней, хорошенько перессорившись со всей семьей: с женой, потому что суп был слишком горяч и пересолен; с шурином, потому что он защищал жену, а, по-моему, не имел на это права, так как остался без работы и сидел у меня на шее; со свояченицей, потому что она была на моей стороне, а меня это злило, так как она попросту влюблена в меня и кокетничает; со своей матерью, потому что она пыталась меня успокоить; с отцом, который требовал, чтоб ему дали спокойно поесть, и, наконец, с дочкой, потому что она разревелась, — я вскочил, схватил со стула пиджак и заявил напрямик:
— Знаете что? Вы мне все надоели. Увидимся в октябре, когда будет попрохладнее.
И ушел из дому.
Жена, бедняжка, выскочила на лестницу и, перегнувшись через перила, крикнула, что есть еще салат из огурцов, который я так люблю. Я ответил: «Ешь сама» — и вышел на улицу.
Живем мы на виз Остиензе. Я перешел улицу и машинально направился к чугунному мосту у римского речного порта. Два часа — самое жаркое время дня; небо было сине-свинцовое от сирокко, словно подбитый глаз. Дойдя до моста, я прислонился к железным перилам, которые так и обжигали руку. Тибр, зажатый меж набережных, со своей грязно-желтой водой был похож на сточную канаву. Газгольдер, напоминающий обгорелый каркас здания, печи газового завода, силосные башни, трубопровод бензоцистерн, остроконечная крыша теплоэлектроцентрали обступали горизонт, и казалось, будто это не Рим, а какой-нибудь промышленный город Севера. Я постоял немного, глядя на Тибр, такой желтый, узкий, на баржу у пристани, груженную мешками с цементом, и мне стало смешно, что эта канавка зовется портом, так же как порты Генуи или Неаполя, куда заходят огромные корабли. Если бы я действительно захотел сбежать, то из этого «порта» я мог бы самое большее добраться до Фиумичино и поесть жареной рыбы, глядя на море.
В конце концов я двинулся дальше, перешел мост и направился к пустырям, которые тянутся по ту сторону Тибра. Хоть я живу близко, но никогда здесь не бывал и не знал толком, куда шел. Сначала я зашагал по обычной асфальтовой дороге, по обе стороны которой были голые поля с грудами отбросов. Потом дорога превратилась в немощеную тропинку, а груды мусора поднимались уже целыми холмами. Я решил, что, видимо, попал в ту часть города, куда вывозят мусор со всего Рима; здесь не росло ни былинки и все кругом было засыпано бумажками, ржавыми консервными банками, кочерыжками, всякими отбросами пищи; пустырь был залит слепящим солнечным светом, остро пахло гнилью. Я остановился в нерешительности: идти вперед не хотелось, а возвращаться назад тоже желания не было. И вдруг я услышал, как кто-то причмокивает губами, словно подзывает собаку.