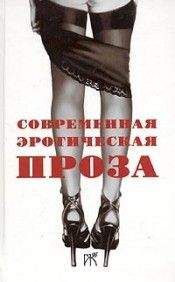Но Эмили уже не могла остановиться, она должна была идти до конца – ее пальцы вторглись внутрь и… нашли там пустыню, в которой, казалось, никогда не шли дожди. Она прекрасно знала, что это значит – она сама была женщина, и ее влаги сегодня хватило бы для них обеих, но она знала также, что поделиться этим невозможно, как невозможно было для нее прекратить этот обреченный на неудачу приступ.
Но главной сейчас была уже не Кристина, а она сама, Эмили, которая не могла уйти отсюда, не получив то, без чего, как она чувствовала, она умрет, погибнет. Обо всем остальном пока можно было не думать. Не убирая пальцев из горячего лона Кристины, она, удивляясь собственной сноровке, сняла с себя то, что могло ей помешать, и, вооружившись дубинкой, несколькими резкими и судорожными движениями довела себя до ошеломляющего оргазма. Ощущения, которые она испытала, были настолько сильны, что она целую минуту не могла подняться с колен – ее голова лежала на ногах по-прежнему безразличной и безвольной Кристины. Наконец, она превозмогла себя, поднялась, с трудом натянула форменные брюки, которые даже толком не успела снять – они, сложившись гармошкой, вместе с трусиками просто упали вниз.
Ноги едва держали ее.
Она взглянула на Кристину, которая так и не шелохнулась за все это время. И вдруг пронзительная мысль обожгла ее. Кристина полусидела в той самой смешной и уродливой позе, в которой она представляла себя, когда Том или кто-то другой овладевал ею. И то же безразличие, которое она увидела бы в своих глазах, будь тогда перед ней зеркало, увидела она теперь в глазах Кристины. Она могла пребывать в этой позе с распахнутыми ногам еще сколь угодно долго, потому что ей были совершенно безразличны те, кто пришел бы сюда, чтобы овладеть ею и несколько мгновений испытывать то, что может дать трение друг о друга обнаженных тел. И заглядывая в глаза этой девушки, Эмили увидела еще кое-что – она увидела себя, такую же беззащитную и равнодушную. Впрочем, были и отличия: те, кто когда-то брал ее, давали ей что-то взамен, она же не могла предложить Кристине ничего, кроме своего сомнительного предположения о том, что девушка от этого соития получит то же, что желала получить она.
Теперь, когда было ясно, что это предположение не оправдалось, ей вдруг стало стыдно. Стыдно за свое извращенное сладострастие, за свое коварство, за свою слабость. Ей было невыносимо смотреть в эти глаза. Даже отвернувшись от них, она продолжала видеть этот взгляд, устремленный куда-то мимо нее. Но странное дело, несмотря на весь этот стыд, она бы ни за что не отказалась от пережитого. Если бы ей предложили вернуться на час назад и отказаться от ее плана, она бы отвергла это предложение или, что еще лучше, пережила бы все еще раз, даже зная обо всех последствиях этого шага.
Она вышла, заперла дверь и направилась к карцеру. Разбудила Шарлоту и отвела ее назад в камеру. Снова заперла дверь и поспешила к себе в кабинку. Если бы не воспитанное в ней с детства чувство долга, она ушла бы отсюда сразу же, сейчас, ночью. Но она додежурила до конца, сдала смену, отнесла начальнику тюрьмы подготовленное ночью заявление об увольнении и отправилась домой.
Она словно сбросила какой-то груз с плеч, освободилась от прошлого и обрела, наконец, свободу. Она чувствовала себя готовой для новой жизни. Она еще не знала своего будущего, но была уверена, что оно у нее есть. Ей исполнилось всего двадцать восемь лет, она была красива и полна желаний.
Да, да, полна желаний – не томления по чему-то несбыточному, а ясных и конкретных желаний. И кому какое дело до того, что она в своих желаниях не похожа на большинство других женщин? Значит, так угодно Господу, который не дал ей того, что дал другим. А может быть, дал больше. Потому что она уже побыла обычной женщиной и знает, что это такое. Хотя опыт у нее и был невелик, она хорошо запомнила: быть женщиной – это уметь расставлять ноги и терпеть трение чужеродного тела о твои нежные и ранимые ткани. Она не только сама прошла через это, она только что имела возможность посмотреть на себя со стороны, потому что, глядя в глаза Кристины, она смотрела в зеркало, где видела свои глаза, полные безразличия и готовности терпеть. В кабинете, который восемь лет был ее рабочим местом, она оставила дубинку. Пусть же эта оставленная ею дубинка станет символом того, что она, Эмили, отказывается от насилия. Но не от своей природы.
Она не даром прожила эти годы. Это было нужно для того, чтобы она узнала себя. Восемь лет и один день – такую цену заплатила она за знание, которое теперь наполняло ее. Наверное, многие осудили бы ее за ее выбор, но она сделала его, подчинившись не сухой логике рассудка, а неодолимой логике своей природы. А ее природа жаждала любви, но не той, которую могли ей дать мужчины, погружая в ее лоно дубинки своей похоти, а той, которую она могла дать другой страждущей женщине, получая в ответ такую же любовь.
© 2007, Институт соитологии
ФДР – Франклин Делано Рузвельт