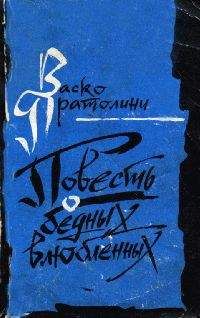Мы пошли дальше по виа Маджо; эта улица, пустынная и тихая, как и наша, была застроена высокими домами. Приятный вечерний холодок освежал тело. В душе у меня царило смятение, я выжидал, растерянный, охваченный какой-то смутной злобой, бессильный заранее что-либо предрешить, обдумать и осознать. Я шагал рядом с отцом и бессознательно, отстраняясь от него, жался к стенам домов. Внезапно отец подошел совсем близко и взял меня за руку; ладонь у него была влажная и горячая.
— Ну вот, мы пришли, — сказал он, — Будь умницей.
(Вечером я горько плакал, прижавшись к бабушке, на нашей постели в алькове. На следующий день у бабушки был очень сильный приступ, она лежала без сил на голубом диване, черная, страшная, как призрак. Пришли чужие люди с носилками и унесли ее куда-то, бедняжку. На ужин Эбе приготовила мне кофе с молоком и поджарила хлеба; я снова лег спать с папой. Прошло еще несколько дней, и мы с ним покинули дом на виа де'Магадзини. Я в последний раз вышел на балкой. Школа-казарма сильно изменилась, ее выкрасили в ярко-желтый цвет, в окнах появились высокие матовые стекла, новые водосточные трубы сверкали, как серебряные. Школа теперь стала чужой. И дом наш тоже стал чужим, замкнулся во мраке; ничто более не принадлежало мне в этом доме, кроме воспоминаний о маме, от которых мое сердце сжималось в тоске. Наступили дни жизни у Сайта Кроче, в доме где всем распоряжалась Матильда, — горькие и незабываемые дни моего отрочества.)
Снова пришло лето, июнь. Умер мой дядя с окраины, бабушка лежала в больнице и таяла день ото дня. Вместе с отцом я ходил навещать ее, она неподвижно лежала на спине и плакала молча, без слез; плохо пришитая пуговица на пиджаке и мои всклокоченные волосы приводили ее в отчаянье. Я целовал бабушку в лоб, чувствовал на своем лице ее прерывистое дыхание, запах лекарств и кала, стоявший вокруг постели; каждый раз я испытывал удивление, когда видел, что она жива и плачет. Ужаc, ненависть и смятение тех долгих дней, которые я провел с Матильдой, заставили меня позабыть, что бабушка еще жива, в моем сердце она сохранилась такой, какой была она в нашем доме на виа де'Магадзини, но ее образ, как и образ дедушки и дяди, стерся и потускнел. Только маму я не мог забыть, о ней мне постоянно напоминало присутствие ненавистной Матильды, и я находил в себе упорство и силы бороться и сохранить верность ее памяти. Приходя к бабушке, я заставал ее в живых, но она была похожа на тень, тихо лежала на койке, среди других таких же коек, и ее заплаканное, сморщенное лицо среди других таких же старушечьих лиц оттенялось белизной белья и больничных стен, а воздух был спертый и влажный, и мне казалось, что я поневоле участвую в какой-то жестокой комедии. Я испытывал облегчение, когда отец прощался с бабушкой, она брала мою руку и сжимала ее изо всех своих слабых сил. Иногда мы заставали у бабушки Риту и Эбе, — обе были в темных платьях, но все такие же молодые и сердечные; они рассказывали, что Абе вышла замуж, родила сына, на виа дель Маттатойо выросли новые дома, открылись новые лавки, а Ванда подросла, стала красивой девушкой. Стояло лето, по вечерам в доме было невыносимо душно. Ужинал я вместе с Матильдой и ее сестрой Джованной, стол они пододвигали к самому окну; обе были в нижних юбках и жаловались на стеснение в груди и жажду. Часто, когда засыпал сынишка Матильды, сестры отправлялись в кино и возвращались вместе с отцом поздно вечером. После ужина отец отпускал меня из дому, я шел на ближнюю площадь, где обитатели квартала собирались, чтобы подышать свежим воздухом; Матильда никогда не провожала меня, — не желала встречаться с бедным людом. На площади мои новые школьные друзья умели отвлечь меня от гнетущих мыслей о доме — я часто вспоминал потом счастливые вечера моего детства, буйные мальчишеские игры, в которых я впервые испробовал свои силы, гордый, что могу бороться, наносить обиды и великодушно уступать другим. На скамьях и у фонарных столбов сидели женщины из простонародья и громко, с увлечением болтали, а вокруг сновали ребятишки, стояли мужчины без пиджаков, прогуливались юноши и девушки, не замечая ни гомона, ни автомобильных гудков, ни отчаянного грохота телег по булыжной мостовой. Возле фонтана, неподалеку от нашей ватаги, облюбовавшей себе столб на краю площади, обычно играли девочки. Иногда они переставали скакать через веревочку и прерывали свою веселую песенку:
Красивые дочери у мадам Доре,
Красивые дочери.
Отдайте мне одну из них, мадам Доре,
Отдайте мне одну из них.
Они смотрели, как мы боремся, бегаем взапуски вокруг площади, стараясь обогнать друг друга. В их честь мы бегали наперегонки, ходили на руках и, чтобы поразвлечь их, прыгали с места через скамейки. Они смеялись, а когда кто-нибудь из нас отваживался подойти и заговорить с ними — убегали. В конце концов они приохотили нас к своим более спокойным играм и сами привыкли к нам: сначала перестали убегать, потом прекратили смеяться, когда какая-нибудь выходка не удавалась, и даже уговаривали попробовать еще раз с их помощью и скоро стали принимать нас в свои игры. Взявшись за руки, мы шли навстречу друг другу двумя шеренгами, распевая:
Они красивы, и я их берегу, мадам Доре,
Они красивы, и я их берегу.
Мальчишки, которых мы не принимали в игру, стали нашими врагами, они подкарауливали нас у фонтана и обливали водой, а при встрече плевались, дразнили «девчатниками» и вызывали драться на кулачках. Во время игры мне всегда хотелось взять за руку одну из наших подружек; это была маленькая девочка, которая вначале показалась мне строптивее всех, не такая разговорчивая и живая, как другие, скорее даже робкая. Как знать, почему она прониклась ко мне доверием и сама выбрала меня в товарищи по веселой игре? Как-то раз мы отдыхали на скамейке, и она рассказала, что ходит в ту же школу, что и я, и давно знает меня по имени; когда во время разговора наши руки нечаянно встречались, мы оба испытывали смущение. Однажды я проболел несколько дней, как и друг колокольчик у входных дверей зазвенел, и белокурая девочка спросила с улицы у высунувшейся из окна Матильды:
— Как поживает Валерио? Передайте ему привет от Ольги.
Иногда, вернувшись домой, я слышал, как Матильда бушует в своей комнате, дожидаясь отца. Меня настигал ее голос:
— Не смей приходить так поздно!
В окне на лестнице мелькали тени. Матильда звала меня в свою комнату, она лежала в кровати; летом весь дом бывал пропитан каким-то особым женским запахом. Ее белое тело колыхалось на шаткой кровати, большие груди выпирали из-под сорочки, и Матильда неторопливо и равнодушно прятала их. Я знал всю ее историю, и меня охватывало смятение, я медленно подходил к кровати и спрашивал:
— Чего тебе? Я хочу спать.
Матильда усаживала меня на край постели и гладила по плечу. Потом спрашивала:
— Где ты был?
В комнате стоял какой-то особый запах женского пота и пудры. Но сама Матильда казалась удивительно свежей, только капельки пота делали ее чуточку бледной. По другую сторону кровати, в колыбели, тяжело дышал ее малыш; боясь разбудить его, мы говорили шепотом; лампа на ночном столике освещала половину кровати, а позади меня, за распахнутыми окнами, повисла ночная тьма, слышалось жалобное мяуканье кошки да громкий храп мужчины в дворовом садике. Матильда повернулась на бок, лицом ко мне, от резкого движения простыня сползла до самых ляжек, открыв бедра, просвечивавшие сквозь тонкую сорочку, и я, как зачарованный, смотрел на голубую жилку, сбегавшую от шеи к груди. Она протягивала мне книжку Каролины Инверницио [7], приложение к газете, в грубом картонном переплете. Мне приходилось читать вполголоса, вплотную подвинувшись к Матильде. Ее теплая рука лежала теперь на моем бедре, и я с трудом мог совладать со своей растерянностью. Пока я читал, она засыпала и, ворочаясь во сне, еще больше раскрывалась. Я убегал в свою каморку и там наконец погружался в сон.
По утрам, когда отец бывал дома, между мной и Матильдой устанавливалось перемирие, но мы не переставали осыпать друг друга злобными взглядами и намеками. Я научился стлать постель, сам подметал свою каморку, приводил в порядок книги, читал и старался как можно меньше бывать в других комнатах. «У мальчишки тоже есть своя гордость», — говорил я себе. За обедом отец молча смотрел на меня, и мне казалось, что взглядом он одобряет мое поведение.
Потом он уходил, я снова запирался в своей комнате, слышал, что к Матильде пришла ее сестра Джованна, склонялся над книгой, но ничего не мог понять, так волновали и оскорбляли меня два голоса, доносившиеся из-за перегородки. «У мужчины есть своя гордость, — думал я. — И у мальчишки тоже есть своя гордость». Но дальше этого утверждения я не шел. В соседней комнате Матильда и Джованна громко болтали, стараясь, чтобы их услышал молодой человек, который подмигивал им из окна напротив. Я узнавал о появлении молодого человека в окне по веселому и развязному тону Матильды и ее сестры. Я знал, что рано или поздно Матильда высвободит свою большую грудь и игриво сунет ее малышу, который не может сосать. У Матильды было «порченое» молоко, и малыш «не брал грудь», как не раз насмешливо и вместе с тем сострадательно говаривали её родственники и приятельницы. С каждым днем груди набухали все сильнее, превращаясь в огромные шары с малюсенькими, едва заметными розовыми сосочками. В окне напротив юноша отчаянно подмигивал, кривляясь, как марионетка; он простирал к Матильде свои длинные руки, сложив губы трубочкой, делал вид, будто сосет грудь, и закатывал глаза от притворного восторга. Сестры глупо хохотали. Матильда шлепала себя по белой груди с тоненькими голубыми жилками, тянувшимися до самой ключицы; сестра хлопала в ладоши и прыгала возле нее в бурном веселье. Потом Матильда, сокрушенно вздыхая, напяливала широченный бюстгальтер, а Джованна сзади застегивала его, с комичными ужимками выражая сестре свое сочувствие. Юноша в окне, словно обессилев, падал на подоконник и кричал: «Ах, красотка! красотка!» Наконец Матильда делала вид, будто собирается снять комбинацию, и тут только, словно впервые заметив, что юноша за ней подглядывает, захлопывала ставни к великому неудовольствию своего обожателя. В те дни, когда от избытка молока ее мучила боль, она надавливала на.грудь, и оттуда текла непрерывная белая струйка, которая порой забрызгивала мебель и кровать. Однажды Матильда брызнула мне в лицо молоком; теплая и липкая жидкость попала на левую щеку и, прежде чем я пришел в себя от неожиданности и отвращения, стекла на губы; желая избавиться от нее, я невольно высунул язык и сразу же ощутил во рту запах сена и ромашки. В отчаянье, вытерев щеку рукавом, я выбежал из комнаты; сквозь смех женщин до меня долетел возглас юноши: