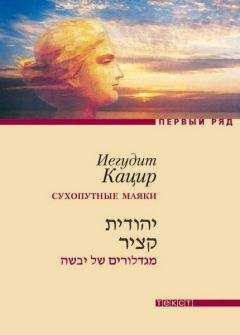— Это твой, что ли, тебе выставку сварганил, да? Я же говорил, что ты всегда падаешь на четыре лапы, как кошка.
Заместитель мэра поздравил присутствующих с открытием выставки и сказал, что ему нравится искусство молодых.
Затем с прочувствованной речью выступил Шимшон. Его седая прядь элегантно спадала на лоб, а речь изобиловала выражениями типа «конкретика и абстракция», «метафорическая стратегия тела», «крушение репрезентации» и «субъективный нарратив». Имена Лакана, Фуко и Деррида[21] кружились вокруг меня, как блестящие конфетти, а со стен на меня в упор смотрели страдальческие глаза Саманты.
Весь вечер я нервно поглядывала на дверь в надежде, что она вот-вот распахнется и войдет Наоми — долговязая, нескладная, в поношенном черном бархатном платье, купленном на блошином рынке, с неизменной сигаретой в руке. Но Наоми не пришла.
Когда речи закончились, я закрылась в кабинете директора галереи и набрала ее номер. Язык у нее заплетался. Я поняла, что она пьяна.
— В чем дело, где ты?
— Сегодня утром я положила маму в психушку. Она три дня подряд, не переставая, мыла полы, даже ночью, а потом выпила всю «экономику»[22]. У меня больше нет никаких сил.
— Я тебя весь вечер прождала.
— Прождала? Где?
Она забыла. Совершенно забыла.
— Как где? В галерее. На открытии моей первой выставки.
— Сыграй со мной в игру «Хорошо жить в мире, где…», — сказала она вдруг еле слышно.
— Ты что, рехнулась? Знаешь, сколько здесь людей?
— Ну пожалуйста. Назови три-четыре имени и всё.
Ни одно имя мне в голову не приходило. Кроме собственного.
— Я сейчас не могу. Позвоню тебе, когда все кончится. Держись.
Но когда все кончилось, мы с компанией друзей отправились праздновать в дорогой ресторан, а затем пошли домой, легли в постель и Шимшон, как младенец, прижался губами к моей груди.
Я позвонила ей только на следующий день. Она еще спала и сказала, что перезвонит позже. Но так и не перезвонила. Никогда.
На открытие выставки пришел и Яир. Его глаза светились в толпе, как два голубых огонька. Через несколько дней мы начали встречаться, потом стали вместе жить, а через три года я перестала принимать таблетки и сразу забеременела. Мы решили пожениться. Я послала Наоми приглашение на свадьбу, но она не пришла. Она исчезла. Вернее, я сама позволила ей исчезнуть.
Я вышла из парка на шоссе, остановила такси и попросила отвезти меня на улицу Врачей. Двадцать лет назад в такие же холодные зимние дни я сбегала по утрам с уроков, приходила к Йоэлю, утыкалась лицом в его пахнущую стиральным порошком фланелевую рубашку, и его влажные пальцы расстегивали пуговицы на моей голубой школьной блузке. Когда я видела его в последний раз? Два года назад? Нет, это было еще до выкидыша. Значит, два с половиной. Это было в Тель-Авиве, в кафе на берегу моря. Мы сидели, пили кофе, и он спросил, счастлива ли я в браке. Сам он себя счастливым никогда не считал.
Несколько месяцев назад он оставил мне на автоответчике сообщение: «Сегодня я развелся». Сообщил новый номер телефона и новый адрес. Но перед приходом я ему так и не позвонила. Я была уверена, что он сидит дома и ждет.
Когда мы подъехали к площади Сефер, я неожиданно для себя самой попросила пожилого водителя в такой же бейсболке, как и у деда Йехиэля, свернуть направо в сторону Кармелии, остановиться и подождать. Он посмотрел на меня в зеркальце заднего обзора и сказал:
— Без проблем. Только не забывайте — счетчик тикает.
Я толкнула облупившуюся белую калитку и вошла во двор в надежде на то, что днем новые жильцы дома находятся на работе. Калитка заскрипела. Прямо у входа рос куст «райских птичек». Он был голый. Все его «птички» с оранжевыми хохолками разлетелись[23]. Я подошла к нему, наклонилась и слизнула несколько капель с длинных влажных от дождя листьев. Потом обогнула дом и прошла на задний двор. Возле сосен цвели дикие цикламены, увенчанные зелеными сердечками листьев, и нарциссы, источавшие горько-сладкий, как в комнате больного, запах. В центре по-прежнему стояли дерево-жених и дерево-невеста, но ни листьев, ни гавайских цветов на них не было. Их голые серые ветви, словно руки, молитвенно возносились в небо. Я поднялась на веранду и села на бело-зеленые обшарпанные качели, мокрые от дождя. Сиденье подо мной заскрипело и перекосилось. У стены стоял стол, покрытый полиэтиленовой скатертью, а возле него — две горки белых металлических стульев со следами ржавчины. Я мысленно расставила стулья вокруг стола и рассадила на них всю свою семью.
Дед Йехиель — в бейсболке таксиста. Далья — в короткой юбке колоколом и с прической в форме ракушки. Загорелый и улыбающийся Ури в военной форме. Дядя Мони в шортах, как на фотографии, стоящей на этажерке тети Рут. Мама, золотоволосая и прекрасная, как фея, положила ногу на ногу. Папа прикрыл рот ладонью, чтобы скрыть улыбку. Своего брата Нуни я поместила рядом с собой, на качелях — он сидел и болтал пухленькими ножками, — а тетю Рут усадила во главу стола. Она рассказывала нам о своих приключениях эпохи Британского мандата. Ее голос то гремел, как голос актрисы, произносящей трагический монолог, то вдруг стихал до шепота и начинал звучать интригующе, а не знающие покоя руки с вечной черной каймой под ногтями чистили мандарины. и манго. Потом она взяла серебряные щипцы, расколола несколько орехов и разложила ядрышки по нашим тарелкам.
Половина сидящих на веранде, как говорится, уже далече, да и те, кто еще жив, разлетелись кто куда. Так что я вполне могу понять, почему тетя Рут так хочет воссоединиться с мужем, сыном, братом и племянницей. Человек, чье прошлое умерло, может жить, только если у него есть настоящее. Но если настоящее у него отобрали и собственное тело ему больше не подчиняется, то его уже ничто с этим миром не связывает и нет ему никакого утешения.
— Счетчик тикает, — пробормотала я. — Да, счетчик тикает.
Я спрыгнула с качелей, вышла за калитку и пошла к такси. Надеюсь, тете Рут никогда не захочется сюда прийти.
На улице Врачей такси остановилось. Непослушными руками я достала из кошелька деньги и расплатилась. Я вошла в подъезд и поднялась на второй этаж. Сердце у меня в груди виляло хвостом, как собака Павлова. На стене возле звонка черным фломастером было небрежно написано: «Лев». Мой палец по старой привычке автоматически нажал комбинацию «2-1-2». Кашель. «Одну минутку». Снова кашель. Шаги. Дверь открылась.
Улыбающиеся скобки губ. Блеск за стеклами очков. Поредевшие, поседевшие волосы. Клетчатая фланелевая рубашка. Явно ему мала и не может скрыть отросшего брюшка. Я подставила щеку под его седую щетину. Запах пота, алкоголя и еще чего-то незнакомого. Наверное, старости.
— Какими судьбами? Что привело тебя к нам в провинцию?
— Сама не знаю. Надеюсь, до отъезда пойму.
Он сделал жест рукой, приглашая меня войти.
Голые стены. Диван с выцветшей обивкой неопределенного цвета. Поцарапанный деревянный стол. Телевизор. Деревянные полки. Несколько книг. Квартира бедного студента.
— Я тут живу всего несколько месяцев, — сказал он виновато. — Все оставил ей.
— А почему вы с ней… Что случилось?
— Да ничего особенного. Застала с ученицей…
Ясно. Холодная ванна, рекомендательное письмо без слов…
— Ну, я думаю, переспать с тысячью и погореть на одной — это совсем неплохой результат.
— Издеваешься… Да было-то всего три-четыре, не больше.
— Включая меня? Ладно, не важно. Как твой ребенок?
Я вспомнила огромные глаза, которые следили за мной, не желая закрываться. Он засмеялся.
— Ребенок? Ребенок в Ливане, служит в «Голани»[24]. Мне из-за этого снова стали кошмары сниться, как после войны Судного дня. Совсем перестал спать от страха. Только на «бондормине» и «вабене» еще и держусь.
— А как дочь?
— Заканчивает пятый курс в университете «Бар-Илан». На психологическом.
— Ну а ты-то сам как?
— Если честно, хреново. Никакой радости в жизни.
Он протянул руку и поправил мне прядь, упавшую на лоб.
— Я рад, что ты пришла. Пойдем посидим на балконе.
С балкона был виден зеленый склон горы и большой кусок неба. Над морем снова собирались тучи, похожие на серое армейское одеяло. Йоэль принес с кухни бутылку белого вина и два стакана.
— За тебя, — сказал он.
— За то, что от меня осталось.
— Не преувеличивай.
Мы чокнулись.
— Время летит все быстрее, — сказала я, — и невозможно крикнуть ему, как в детстве: «Замри!» Еще пять-шесть лет тому назад мне казалось, что всё у меня еще впереди, а теперь вот кажется, что всё уже позади. Что могло произойти, уже произошло. Знаешь, я ведь уже почти в том возрасте, в котором заболела моя мама.
— Это ничего не значит, — попытался он меня подбодрить. — Ты проживешь до восьмидесяти, а то и до девяноста.