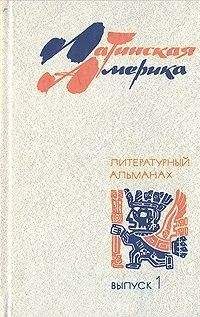— Вот гадье! Прямо дрожь пробирает.
— А меня, думаешь, нет? Но ты послушай, дальше еще лучше: если ты не раскололся после первого зуба, так их ведь еще тридцать один остается. Потом затыкают дыру цементом и ступай, жалуйся в суд. Что ты скажешь судье? Ни одного синяка нет, все кости целы. А на закуску, поскольку каналы не пройдены, у тебя делается флюс, и зуб приходится удалять либо лечить и платить черт знает какие деньги. Чтоб ты подольше помнил.
— Ну, и как ты? Что ты им сказал?
— Я им рассказал про мексиканца, который приехал сюда не для того, чтобы его щупали.
— И они смеялись?
— Да нет. Еще злее стали. К мессе зазвонили, это меня и спасло — Эррера вернулся, а перед начальством они всегда ползают, как рептилии. Начались опять всякие туманные угрозы, и наконец меня отпустили. Сеанс продолжался три часа.
— Чудно все-таки.
— Что тут чудного? Разве они не допрашивают людей по несколько дюжин в день?
— Да, но почему именно тебя? И почему отпустили так скоро? Я знаю, что в подобных случаях хоть и не пытают, но держат человека самое малое два дня.
— А, нет! Дело вот в чем: я им сказал, что я правнук дона Андреса Бельо. И упомянул о своем родственнике — после.
— Это правда?
— Он, видишь ли, к счастью, довольно дальний родственник. Я не стал ничего предпринимать, не стал менять жилье, хотя за мной и следят, это я заметил, пусть думают, что мне нечего скрывать.
— Ах, черт побери!
— Что такое?
— Когда я у тебя ночевал, я видел возле дома какого-то типа, и он очень мне не понравился.
— А как он выглядел?
— Ну, как тебе сказать, мордочка вроде как у бобра, стоит курит. Мундштук длинный.
— Ну да, он, он самый. Один из тех двоих, которые ко мне приходили «приглашать» побеседовать с их начальником.
Я очень встревожился. Старики были правы. Как всегда. Дурак я, не проверил тогда, не следят ли за мной.
Незаметно мы дошли до самой Пласа-де-Армас. Две девочки-близняшки в небесно-голубых платьицах играли с воздушными шарами; подошел бродячий торговец, стал предлагать засахаренные орехи; как всегда, сидели, грелись под последними лучами солнца пенсионеры; в ожидании желанных сумерек появились на скамейках парочки. Я искоса поглядел на Лучито: нос его торчал по-прежнему величественный, будто король на торжественном выходе, солидный и весьма уверенный в себе. И все же что-то чувствовалось в нем не то, какое-то тайное волнение; казалось, вот-вот покатится по гордому носу предательская янтарная капля и повиснет на самом кончике. Почему так казалось, трудно сказать. Ведь все, что рассказал Лучо о допросе, должно бы вроде произвести впечатление прямо противоположное.
— Прекрасной была эта страна, — сказал Лучо глухо, глядя себе под ноги.
— Не надо говорить «была». Она опять будет прекрасной. Ты же знаешь. Весна, во всяком случае, уже скоро.
— Не говори лучше! Негодница эта весна, у меня всякий раз аллергия от пыльцы делается.
Опять мы долго молчали. Тяжелое золотое солнце широкими мазками красило стекла витрин. Напротив на скамейке старушка в черном платье и шляпке с вуалью, страдающая, по-видимому, болезнью Паркинсона, дергаясь, будто на ниточках, крошила хлеб голубям. Голуби перелетали с места на место, садились старушке на плечи, на голову.
— Прекрасной была эта страна, — повторил Лучо, а я-то решил, что он больше об этом не думает, глядит на голубей. — И знаешь, что я тебе скажу? — Лучо с силой схватил меня за рукав. — Мы не можем себе даже представить, до чего они могут дойти. Даже представить не можем! И вдобавок приближается восемнадцатое, людей так и распирает от патриотических чувств, все побегут глазеть на военный парад и будут аплодировать героическим войскам.
Я готов был взорваться, но не сказал ни слова. Что можно ответить, когда все это — чистая правда? Тяжело волоча ноги, прошел древний старик. Весело прыгали небесно-голубые близняшки.
— Это так, — Лучо глядел на девочек, грустно качал головой, — это неизлечимо, никакая тибетская медицина тут не поможет. Слава нации… национализм будет разъедать наши души еще в течение ста лет, не меньше. Но, черт возьми, уже почти шесть часов, а у меня завтра экзамен зверский.
— Когда у тебя бывали не зверские экзамены?
Лучо виновато улыбнулся, похлопал меня по плечу и пошел прочь.
Я глядел ему вслед. Лучо шагал опустив голову, плотно завернувшись в свое длинное пальто из верблюжьей шерсти. Сутулый. Ноги ставит врозь, как Чаплин. Потом он превратился в крошечное зернышко, в едва различимую точку. Наконец вошел в один из порталов, и толпа поглотила его. Лучо ушел, и я почувствовал себя одиноким. Страшно одиноким. Так оно всегда и бывает. Вроде бы одиночество тебя не тяготит, но наступает минута, когда нужен друг, только через него ты можешь ощутить связь со многими ценностями, неизмеримыми, невесомыми. Лучо нет больше рядом, и все вокруг меня кружится в каком-то безумном танце, сменяется, как в калейдоскопе. Переворачивается с боку на бок в своей одинокой постели Гийяр, подвигается к краю, словно хочет оставить местечко для Попович, которую видит во сне; Гавелин бежит вместе с уличными мальчишками вслед за военным оркестром; Худышка разрушает замки на песке, ведь с таким трудом строили мы их на огромных пляжах реки Био-Био, из песка вырастает фигура отца, он машет рукой и говорит мрачно, словно пророчит: «Мы, те, кто участвовал во всеобщей стачке, знаем это; мы хорошо это знаем»; и снова Лучо шагает, завернувшись в пальто, он такой зябкий, бедный Лучо, даже летом носит свое пальто. «За мной гонятся», — говорит Лучо.
Старушка, кормившая голубей, вытирает черно-белое пятнышко на плече, оставленное в знак благодарности последним голубем; в довершение всего искра от моей сигареты попала в воздушный шарик одной из небесно-голубых близняшек, шарик лопнул — уа-а-а-а!
А ведь сегодняшний день начался так весело, я был в великолепном настроении.
— Вифалитай, вифала!
Я испустил громкий воинственный клич и в тот же миг заметил: сижу, плотно прижав к груди руки, как бы сам себя обнимаю, пытаюсь защититься. И я подумал, что ни разу в жизни не садился мне на плечо голубь, что уже несколько месяцев не видел я Худышку и от отца тоже давно не получал никаких вестей и никогда мне не выучиться ремеслу краснодеревщика, чтоб руки мои были в скипидаре и я шагал бы гордо по улице рядом с Гавелином.
— Ну и что же дальше?
Катись ты ко всем чертям, Педро Игнасио! Башка у тебя пока еще цела и кулаки, чтобы колотить по ней — тоже. Знай: все, что с тобой, происходит на самом деле оттого, что ты ни на один миг не забываешь о зубном нерве, намотанном на иглу бормашины.
Как легко, как хорошо стало, когда я обнаружил причину! Конечно, все дело в этом. Только в этом. Я вздохнул глубоко-глубоко и ощутил, как рождается во мне то, что принято называть легкомыслием и что таковым вовсе не является, ибо исторический оптимизм существует. Я еще раз извинился за шарик перед матерью девочки и бегом, со всех ног, будто за мной гнались (а в сердце играли всеми цветами радуги мыльные пузыри, а может, вился пестрый серпантин), кинулся к себе в комнату — писать.
Что это было за безумие! Восемь часов подряд, душа моя! Не прерываясь ни на минуту. Сигареты докуривал до того, что обжигал пальцы; не ел ничего, ни крошки. И так до самого вечера, до позднего вечера, за полночь.
Кончил я наконец переводить нудную слезливую Вирджинию Вулф[34] и отнес дону Армандо. Пещерное наше издательство мне работы, конечно, не давало, но дон Армандо, человек щепетильный в вопросах чести и весьма преданный творческой праздности, занимал там официальную должность переводчика и взял меня под свое покровительство. Я переводил, дон Армандо ставил свою подпись под переводом, наслаждался славой и клал в карман тридцать процентов гонорара. «Мое имя придает вашей работе совсем иной вес, молодой человек», — утешал он меня так отечески ласково, что я начинал чувствовать себя чуть ли не в долгу перед ним. Вот старый мошенник!
Как бы то ни было, а я вышел из его bungalow[35] весело насвистывая. Можно будет отдать часть долга донье Памеле, уплатить за месяц вперед за новую комнату, все равно потребуют, — очень уж плохо я одет, потому и не вызываю доверия, — купить трехтомного Достоевского, о котором я мечтал месяцами. А если быть точнее — годами.
Будто созревшие плоды с деревьев, падали один за другим августовские дни, и наконец настал тот, достославный, в который Маркиз праздновал свое рождение.
В комнате доньи Памелы яблоку упасть негде. Стоит чуть шевельнуть ногой или локтем — обязательно разобьешь вазу с цветами или опрокинешь столик с расставленными на нем безделушками, стаканами и бутылками. Каждый из гостей явился с бутылкой, некоторые даже с двумя. Карлоте, как медиуму (будьте почтительны, господа), с великим почетом предоставили единственное кресло, когда-то, в далекой молодости, обитое ярко-красной, теперь потемневшей парчой. На этом тициановском фоне ее прозрачная кожа, зеленый тюрбан и соблазнительная, напоминающая Гаргантюа, полнота выглядели весьма величественно. Я попытался хоть кое-как пристроиться на диван-кровати, где уже теснились не менее дюжины человек, но куда там! В конце концов пришлось сесть на пол, прислонившись спиной к коленям Карлоты.