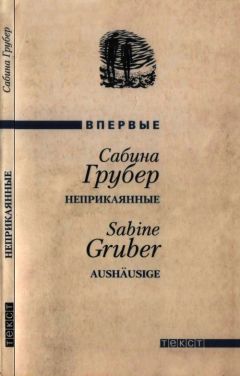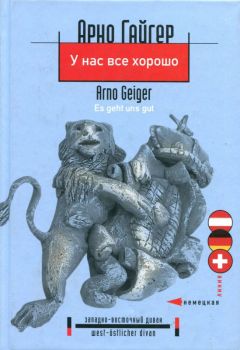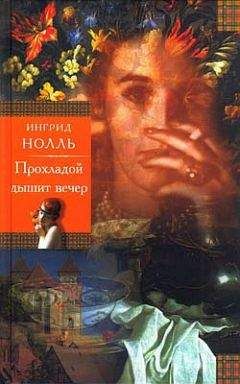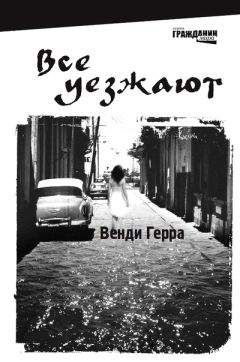Час сорок две минуты, а она все еще не пришла домой, не позвонила. Я уже битых два часа хожу взад-вперед по квартире, как некогда ходила мать. Если отец был где-то в пути, если собиралась гроза, надвигался град, мать стояла у окна и высматривала, не идет ли он, даже когда это высматриванье длилось часами. Иногда в той озабоченности, какую она выказывала перед нами, детьми, словно таилась смутная надежда, что с ним на самом деле может произойти то, чего она якобы так боялась. Однажды он на полчаса опоздал — а собирался прийти точно вовремя, поскольку условился встретиться с соседом, чтобы вместе определить, когда кому из них пользоваться дождевальной установкой, — и она уже видела его мертвым, раздавленным, в луже крови. За последние часы я по меньшей мере трижды вылавливал Риту из Дуная.
Встает и удирает, не умея спорить. А начиналось-то все безобидно: она радовалась этому ужину, надела блузку, расстегнув ее на одну пуговицу ниже, чем следовало, флиртовала с Денцелем, терпеливо, наверное в тысячный раз, выслушивала чей-то рассказ о поездке в Венецию и умела даже обуздать назойливость Мареша.
Они все тоже вели себя сносно и, вопреки обыкновению, не представлялись журналистами-всезнайками. Симонич интересовалась, как там Пиа, тактично избегала упоминать Эннио, пустила по рукам фото своей младшей племянницы и предложила Рите свою 150-метровую квартиру на случай, если Пауль вернется из Рима раньше, чем предполагалось. Когда на стол поставили красное вино, я прямо обалдел: Рита встала, взяла бутылку, подошла к стойке и обменяла это красное на безбожно дорогое белое. Мареш, заказавший красное вино, подавленно молчал.
Потом подали рыбу, не то леща, не то палтуса — точно не помню. Это несвежие морские гребешки, сказала она Марешу и принялась копаться у него в тарелке. Свежие подают прямо в раковине, а эти после обработки выложены на блюдо для украшения. Лицо у нее раскраснелось, а руки дрожали. Все молчали, пораженные этой неожиданной выходкой. Вы не поверите, продолжала она, вот, смотрите — она сняла кожу со своей рыбы, — темное мясо, самый дешевый импортный товар, из Японии, свежестью тут и не пахнет, а вы — она поднялась — даете себя облапошить, едите, что вам подсовывают. Она бросила на стол салфетку, достала из бумажника сто шиллингов и положила на тарелку. Это красная цена.
При нормальных обстоятельствах Ритиного спокойствия, Ритиной улыбки хватало на целый вечер, в этом смысле она всегда отличалась от Иоганны, которая застывала, произнеся каких-нибудь три фразы, и безучастно смотрела в окно. Эта улыбка до сих пор у нее не пропала, она неизменно присутствовала, без всякой причины, улыбка безмолвно окутывала ее, была от нее неотделима. Она и не замечала, как эта ее улыбка согревала других, как они становились не такими бесчувственными, не такими высокомерными.
Мы здесь не у «Годио», — сказал я, и не в «Штирийском уголке» или в «Шнаттле», а Симонич бежала за ней до самого выхода, подняла стул, который Рита от волнения опрокинула, тщетно пыталась уговорить ее вернуться.
В такой ярости она была в последний раз, когда поругалась с отцом. Я ухожу. Этого ты не сделаешь. Каждое возражение он подавлял криком. Их громогласная перебранка приманила соседей к окнам, зашевелились занавески, стали приоткрываться двери. С частью своих пожитков она спаслась бегством в сад и вернуться уже не могла, потому что отец бы ее побил, он уже начал кидаться в нее поленьями. Иоганна отослала своего старшенького в комнату, а сама стояла в дверях, как всегда, в нерешительности, не принимая ничью сторону. Заступиться за Риту она не решалась, вместо этого принялась на глазах у соседей собирать и складывать разбросанные поленья, чтобы они не напомнили отцу о Рите, когда он пойдет играть в карты.
Было ошибкой забирать ее в Вену. После стольких неспокойных лет она не может оставаться в том месте, где сейчас находится. Одной ногой здесь, другой там стоит она, раскорячившись, над километрами пространства, все время озабоченная тем, чтобы не упасть.
По крайней мере, она избежала дискуссии о Mezzogiorno[7].
Они без конца пережевывают одни и те же штампы; с Эннио тоже нельзя было всерьез об этом говорить. Для него Италия состоит из двадцати шести миллионов жителей Севера, даже Центральная Италия и Рим не идут в счет.
У нее в комнате — никаких признаков, ничего, что могло бы помочь мне продвинуться в поисках. На тумбочке у кровати лежат фотографии Венеции.
Симонич полагает, что все на свете можно объяснить, правильно подобрав факты. Она проверяет себя, что-то заучивает наизусть, возможные совпадения записывает. Тут уж мне милее Денцель, пусть многое у него выхвачено из воздуха, чистая спекуляция, но ему не откажешь в мужестве, и он знает историю. Юг, поучал он Мареша, с древних времен не знал единого экономического и социального развития, и, в отличие от Севера, средняя буржуазия там всегда оставалась слабой. Даже после объединения Италии ничего не удалось изменить в социальном устройстве — в феодальных структурах — и в землевладении. Я был тогда слишком усталый, чтобы оказать ему поддержку в его рассуждениях; вместо этого мне вдруг вспомнился наш южноитальянский почтальон: братья и сестры его деда между 1880 и 1920 годами эмигрировали в Америку; от этой массовой эмиграции Юг страдает по сей день.
Хотя отец Пино принадлежал к тем фашистам, которые в начале октября 1922 года затеяли «марш на Больцано», заняли ратушу и прогнали бургомистра, в нашем доме сам Пино был желанным гостем. На Рождество он получал огромный кусок сала и две бутылки «санкт-магдаленера», но и в течение года отец снабжал его мамиными сладкими пирогами. Вот если бы все они были такими, говорил отец каждый раз, когда мне случалось стоять с ним рядом в то время, как Пино, всласть наевшийся яблочного штруделя, садился на свой мотороллер, чтобы развезти оставшуюся почту. Его братья, Луиджи и Эудженио, были, в противоположность ему, убежденными сторонниками ИСД[8]. Отец и к ним хорошо относился; в те редкие воскресные вечера, какие он проводил с Пино и с его братьями в вокзальном баре, он словно не замечал, не хотел знать, что приветливость и знание немецкого языка вполне совместимы с неофашистскими взглядами. Эннио же он, напротив, отверг еще до того, как тот был ему представлен. Запах рыбы он чуял даже по телефону, старался не звать Риту, когда ей звонил Эннио, и даже с годами не делал попыток преодолеть разделявший их языковой барьер.
Что мне делать? Вызвать полицию? У отца сейчас набухли бы жилы на висках, вертикальная складка на лбу сделалась бы глубже, а мама заняла бы пост перед домом.
9
Рита обратила на него внимание, когда он только вошел, а потом начисто о нем позабыла. Отметила еще любопытные глаза девятнадцатилетнего парня, который несколько секунд выдерживал устремленный на него взгляд, а потом начинал искать собственное отражение в окне.
Теперь, подсев к стойке рядом с Ритой, он уже не скрывает своего любопытства: смотрит и смотрит, не отрываясь. Рита разглядывает его лицо, пытается понять, кто ее так заинтересовал — ребенок или уже мужчина. Сочетание вожделеющего взгляда и еще не тронутого бритвой подбородка, позы, в какой сидят только взрослые мужчины, и пальцев, игриво похлопывающих по джинсам, — это сочетание Риту возбуждает и в то же время заставляет смотреть в другую сторону.
Она вынимает из сумочки листок бумаги и делает вид, что читает, но он не отворачивается, даже когда она смотрит на «молнию» у него на брюках. Он перехватывает ее взгляд, правой рукой похлопывает выпуклость, почесывается.
Здешний кельнер, вдруг слышит Рита собственный голос, похож на служителя в моей бывшей школе. Когда шел дождь или снег, он стоял у входа и следил за тем, чтобы все учащиеся хорошенько вытирали ноги о половик; стоило кому-то перескочить через этот огромный войлочный половик, как его за ухо тащили обратно. Почему ты на меня смотришь? Он улыбается и вытаскивает из пачки сигарету. За спиной у Риты на освободившийся табурет взбирается старая женщина и заказывает стакан красного вина. Губная помада осталась у нее только в уголках рта.
Парень показывает пальцем на свою рюмку. Хотите? Не дожидаясь ответного кивка, заказывает два виски. Вы нездешняя? Из деревни, восемь часов поездом на юго-запад, название тебе ничего не скажет.
Барменша с размаху ставит стаканы на стойку, так что звякают кубики льда. Парень их выуживает, пропускает через пальцы, и они соскальзывают в пепельницу. Потом опять берет пачку сигарет, сжимает ее одной рукой, а другой хватается за причинное место. Он это делает так часто, думает Рита, будто это его любимая игрушка. Судя по всему, он из хорошей семьи. Она его разглядывает. Смысл жизни для родителей. Чтобы дети росли здоровыми, они запрещают им мазать хлеб маслом. Отпрысков состоятельных семей в нашем классе можно было узнать по тому, что после уроков они ныряли в продуктовый магазин, покупали масло в пачках по двести пятьдесят граммов, срывали обертку и начинали есть. У Катарины на полке стояла даже пустотелая книжка, в которой она прятала сладости.