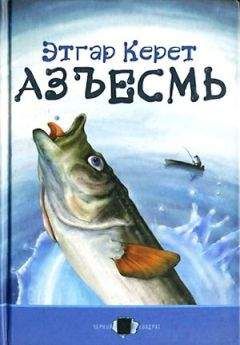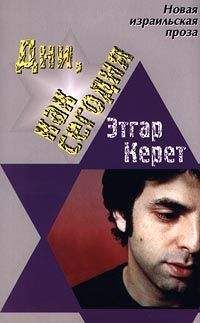Потом, видя, что я его не понимаю, он рассказывает мне, что в школе их было шестеро дружбанов, и каждую пятницу они все вместе выбирались в Тель-Авив. Пятеро спереди – и Бени. «Он себе сворачивался сзади, в парадной одежде, – улыбаются шлепанцы, – а мы закрывали багажник и открывали уже в Тель-Авиве. И потом то же самое по дороге обратно. Ты когда-нибудь ездил пьяный в багажнике?» Я качаю головой. «И я не ездил. – Он берет у меня пустой стакан. – Ну ничего, по крайней мере теперь он ездит впереди».
Я еду по старой трассе на север, в сторону Тель-Авива. Рядом со мной сидит Бени-Багаж-ник, слушает радио и барабанит по приборной панели. Он прекрасно знает дорогу. Еще с доармейских времен, он тогда жил в этой части страны и каждую пятницу ездил с друзьями в Тель-Авив. Они-то и придумали ему эту кличку, Бени-Багажник. Сегодня никто уже не называет его так.
Кажется, у меня в коммпьютере что-то полом-малось. Видиммо, это даже не самм коммпыотер, а просто клавиатура. А ведь я купил его совсемм недавно, подержанными, у человека, помместившего объявление в газете. Странный такой тип, открыл ммне дверь в шелковомм халате, точно какая-нибудь дорогая шлюха в черно-беломм фильмме. Сделал ммне чаю с ммя-той, которую самм любовно вырастил. Говорит: «Коммпьютер за гроши отдаю. Берите, не пожалеете». Я выписал емму чек и сейчас как раз об этомм и жалею. В газете было написано, что распродается все иммущество хозяев квартиры в связи с отьездомм за границу, но человек в халате сказал ммне, что на саммомм деле все распродается в связи с темм, что он вот-вот уммрет от какой-то болезни, но о таких вещах в газете не пишут, особенно если хотят, чтобы кто-нибудь все-таки пришел. «Честно говоря, – сказал он, – сммерть – это в некоторой ммере путешествие в неведоммое, так что я не слишкомм наврал». Когда он это говорил, в его голосе появилась бодрая такая вибрация, как будто он суммел на секунду представить себе, что сммерть – это нечто вроде приятной экскурсии в какую-нибудь новую страну, а не просто теммное ничто, дышащее емму в затылок. «А гарантия есть?» – спросил я, и он засммеялся. А я как раз вполне серьезно спросил, и лишь когда он засммеялся, я от неловкости сделал вид, что пошутил.
В кустах за нашей школьной площадкой для баскетбола нашли человека без головы. Я говорю «нашли», будто нас было сто тысяч человек, но на самом деле там был всего лишь мой двоюродный брат Гильад, у которого мяч случайно залетел в кусты. Так вот он сказал мне, что этот человек – самая тошнотная вещь, какую он видел в жизни. Потому что мяч упал ровно туда, где должна быть голова, и когда он нагнулся его поднять, у него по руке пробежала какая-то мокрая ящерица, выскочившая у этого типа из дырки в шее. И это было так мерзко, что ему потом пришлось мыть руки в фонтанчике чуть ли не полчаса, и все равно у него на руках остался запах – вроде как от испорченной еды.
По телевизору полиция сказала, что это убийство. Да ну? Чтобы до этого додуматься, не надо быть Шерлоком Холмсом. От болезни человек без головы не остается. Но кроме того, что это убийство, полиция ничего сказать не в состоянии – уголовное оно, или политическое, или это, третье, про которое всегда говорят в новостях. «А кроме того, – добавил полицейский репортер, – отдел расследования уголовных преступлений не смог обнаружить еще одну вещь: голову». По одной из полицейских теорий убийство было совершено вообще в другом месте, а по дороге, когда переносили мертвеца, голова потерялась. Эта теория звучит вполне ничего, но только мы с Гильадом знаем, что она неправильная. Потому что, когда Гильад нашел его в кустах, голова еще была там. Не то чтобы на своем месте, но рядом. И вот, пока полиция добиралась до места, Цури, который как раз играл с моим двоюродным братом в футбол и смеялся, что Гильад моет руки в фонтанчике, совсем как баба, из-за какой-то ящерицы и капельки крови, просто взял голову и смылся. Не то чтобы Гильад его за этим застукал, но почти сто процентов, что именно так все и было. На всякий случай Гильад и полиции ничего про голову не сказал, чтобы Цури, если это правда, потом ему не вломил.
Гильад рассказал мне, что у головы были сросшиеся брови и что-то вроде ямочки на подбородке, как у актера из «Тайны романтических сокровищ», а глаза у головы, когда Гильад ее увидел, были закрыты, – и ему очень даже повезло, потому что если кто-нибудь без тела уставится на тебя этаким мертвым взглядом – сто пудов, ты прямо на месте можешь навалить в штаны. А уж чего ни один человек не хотел бы сделать рядом с Цури – так это навалить в штаны. Потому что если бы Цури это увидел – через пять минут об этом знала бы вся школа, и девчонки в том числе. Гильад старше меня на год, и он один из считанных ребят в параллели, у которых есть постоянная подружка, Эйнат, – не из нашей школы, из «Гива». Не то чтобы они трахались или еще что, но когда тебе дают полапать – это уже большое дело. Я б на что только не пошел, лишь бы у меня была подружка хоть вполовину такая красивая, как Эйнат, и чтобы она давала немножко себя потрогать, даже и через одежду. А Гильад говорит, что только за его умение себя подать она и держит его при себе – он всегда провожает ее в бассейн и всякое такое, так что если бы, скажем, он наложил в штаны и она бы про это узнала, она бросила бы его в ту же самую секунду. В общем, ему действительно повезло. А я только подумал, какая же сволочь этот Цури, ворует у незнакомого человека голову, как будто просто пакет шоко из лавочки крадет. И еще я подумал, что вообще это все свинство, – во-первых, потому, что голова без тела – это брррр, а во-вторых, из-за семьи этого человека, – потому что если, скажем, у него был сын, то мало ему видеть, как хоронят папу, – он еще должен думать про голову, которая болтается неизвестно где, и какие-нибудь дети играют ею в кегли или курят и используют ее как пепельницу. Ну и когда мы встретили Цури в «Шаверма Шемеш», я ему так и сказал. Я ему сказал: «Ты думаешь, это веселое дело. Но если б это был твой папа и у него украли голову, тебе было бы совсем не весело». А Цури, который как раз сунул кусок в рот, поднял на меня глаза и сказал: «Чувствуешь себя героем, а, Шостак? Это потому, что рядом стоит твой брат-баскетболист. Но даже он знает, что если ты еще будешь тут, когда я доем питу, все его метр восемьдесят с матерью ему не помогут, я вас обоих порву нафиг». А Гильад сказал Цури: «Что ты пыжишься? Всех-то дел – Рани сказал, что думал». А Цури вообще его проигнорировал, только навис надо мною вместе со своей питой и сказал, чтоб я прикрыл пасть, а то он даже не знает, что будет.
Мы с Гильадом ушли, и я ничего не рассказал. А они так никогда и не смогли выяснить, кто он был, этот человек без головы. По его хрену полиция определила, что он был гой, но не сумели узнать, кто с ним такое сделал и за что. Мой папа сказал, что когда-то в Израиле женщина могла идти ночью одна по улице и ничего, кроме арабов, не бояться. А теперь тут стало как в Америке – люди курят наркотики, а на школьном дворе валяются безголовые трупы. И никому нет до этого дела, сегодня это в газете, а завтра про это никто и не вспомнит. А мама, которая всегда старается его успокоить, сказала, что, может быть, все ошибаются, и этот безголовый просто покончил с собой или упал в темноте, а какое-нибудь животное пришло и отгрызло ему голову. Когда папа все это говорил, я на секунду подумал – не рассказать ли ему про Цури? Но потом вспомнил, как дрожал Гильад, и сказал себе: а зачем? Раз он гой, у него наверняка нет детей, а если и есть, они и знать не знают, что он вообще умер. А если я скажу про Цури, он мне вломит – это раз, а два – я расстрою каких-нибудь детей, которые живут в Польше или в Румынии и думают, что их папа сейчас работает или веселится себе вовсю в нашей далекой стране.
После каникул я перешел в девятый класс, а подружка Гильада уже стала ему давать. Цури бросил учебу и пошел работать на стоянку супермаркета, а у меня тоже появилась подружка, и она ничего мне не давала, даже поцеловать – и то с трудом. Ее звали Мирав, и у нее были самые карие глаза, какие мне случалось видеть, и губы, которые всегда казались вроде как влажными, и ямочка на подбородке, точно такая, какую Гильад видел у человека без головы.
С тех пор, как я вернулся в Израиль, все кажется мне другим. Таким мерзким, тоскливым, утомительным. Даже обеды с Ари, которые когда-то превращали мой день в праздник, превратились в тяжкий труд. Он вдруг взял и женился на этой своей Нэсе и сегодня собирается огорошить меня этим фактом. И я буду огорошен – а как же, – словно косоглазый Офер не рассказал мне об этом по секрету три дня назад. Он любит ее, Нэсю, – так он скажет и вопьется в меня долгим взглядом. «На этот раз, – скажет он своим глубоким, очень убедительным голосом, – на этот раз все по-настоящему».
Мы договорились встретиться в рыбном ресторане у моря. В экономике кризис, и бизнес-ланчи скатились к каким-то совсем уже смешным ценам – лишь бы мы пришли. Ари говорит, что кризис нам на руку, потому что мы – может, до нас это еще не дошло, но мы богаты. Кризис, объясняет Ари, – это плохо для бедных, не просто плохо – смерть. Но для богатых? Это как бонус при покупке билетов. Все, что ты раньше делал, можно получить классом выше без прибавки в цене. Хлоп! – и «Джонни Уокер» меняет этикетку с красной на черную, четыре-дня-плюс-полупансион превращаются в неделю, – лишь бы ты пришел, лишь бы ты пришел, лишь-бы-ты-пришел. «Я ненавижу эту страну, – говорю я в ожидании меню. – Я бы свалил навсегда, если бы не бизнес». «Да ну тебя. – Ари ставит ногу в сандалии на соседний стул. – Где еще на свете ты найдешь такое море?»