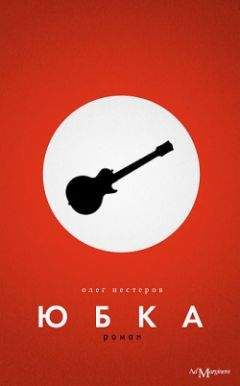– А это что за триумфальная арка? – спросила Лени, пытаясь сориентироваться в макете и привыкая к его масштабу.
– О, это «сооружение Т»! Высота сто семнадцать метров, ширина сто семьдесят. В пятьдесят раз больше, чем Триумфальная арка в Париже. Придется даже возвести рабочую конструкцию – большой пробный груз, такую бетонную чушку, чтобы понять, как себя почвы поведут.
– Арку воспроизвели по наброску Гитлера, кстати, весьма профессиональному, – заметил Вальтер. – Недавно он подарил шефу альбом своих эскизов, которые начал рисовать, еще сидя в тюрьме Ландсберг. Он же в юности архитектором мечтал стать.
– Его и сейчас, похоже, это интересует больше всего на свете, – Максу, видимо, это не очень нравилось. – Адъютанты стонут, когда шеф к нему с тубусами приходит. Даже просят иногда их прятать в гардеробе, чтобы Гитлер успел какие-то другие дела порешать. Иначе могут засесть, и день для страны потерян. У Ковроеда-то беда с дисциплиной.
– Откуда ты все это знаешь? – спросила Лени недоверчиво.
– Да мы в этой кухне варимся и волей-неволей все узнаем. Дядя Алекс, это мы так шефа иногда называем, постоянно удивляется, когда Гитлер вообще работает. У него распорядок дня, как у человека богемы. Встает поздно, завтракает часов в двенадцать, потом пара встреч, и уже обед. А там – застольное общество, разговоры, чай, отдых, и в итоге часто вечерние дела прахом. Тут, глядишь, и ужин, опять беседы, ночью – традиционные две киноленты. У шефа с ним особо доверительные отношения, поэтому он и вынужден все это посещать. Теперь вот волевым решением сумел сократить свои культпоходы до трех раз в неделю, иначе бы у нас все вообще встало.
– Макс, ты говоришь какую-то ерунду. Как бы Гитлер с таким распорядком смог за эти пять лет столько сделать?
– Нет, ну иногда у него вроде как включается авральный режим, и он перелопачивает массу дел.
– Он просто умеет заставить своих сотрудников работать как одержимых, – вступил с ним в спор Вальтер. – И при этом все они счастливы!
– Представляешь, если бы он любил лошадей? Какие бы породы в рейхе сейчас уже вывели! – мечтательно сказал Хьюберт.
– А это что за исполин? – Лени перешла ближе к другой части макета.
– Это Гроссе Халле. Самое большое здание в мире. Высота триста двадцать метров. Массивный бетонный купол, сначала мы думали сделать его по античному образцу, но потом шеф испугался «вражеских бомбардировщиков» – теперь пробить этот купол будет невозможно. Внутри зал на сто восемьдесят тысяч человек. Гитлеру придется каждый раз перед выступлением забираться, как канарейке, по лесенке на четырнадцатиметровую трибуну под огромным золоченым орлом. Вот цирк. Лени, что ты все примериваешься?
– Да я все не могу до конца представить размер всего этого.
– Погоди, тут же у нас все продумано. Можно разбирать макет на части и выходить на улицу в любом месте.
Эрик притащил какой-то столик на колесиках и выдвинул целую часть как кусок пирога. Лени вошла в образовавшийся проем и очутилась почти в самом центре парадной магистрали, вид откуда еще больше завораживал.
– Пригнись. Глаза должны быть чуть выше уровня макета.
– Гитлер при этом обычно на колени встает, – усмехнулся Георг. – Вообще, рядом с нашим изделием его не узнать – живой, глаза горят. Как влюбленный подросток. Шеф при этом даже как-то стесняется немного. Макс однажды их застал, а потом не выдержал и сказал Шпееру: «Знаете, что вы такое? Вы несчастная любовь Гитлера!»
– Лени, у тебя серьезная конкуренция, – улыбнулся Хьюберт.
Эрик присел рядом с Лени:
– Смотри, видишь – по периметру Купольного дворца четыре небольшие башенки? В каждую может поместиться Кёльнский собор.
– А почему все таких размеров? Можете ли вы мне объяснить, к чему эта мегаломания?
– Ну, тут несколько причин, – стал объяснять Вальтер. – В случае с Гроссе Халле Гитлер руководствовался средневековым принципом определения размера. Он вспомнил почему-то монастырь в Ульме, который, при всем желании, не могли заполнить все жившие тогда в этом городе жители, и сказал, что для Берлина-миллионника сто восемьдесят тысяч человек – даже маловато. Ну и еще – большими сооружениями он хочет вернуть чувство достоинства каждому немцу. А у шефа свой резон, он говорит, что мы превзойдем все существующие архитектурные шедевры хотя бы в смысле размеров. Ну и вопрос преемника.
– Это что за вопрос? – заинтересовался Хьюберт.
– Да просто любое ничтожество может весомо смотреться в монументальных зданиях, – объяснил Макс.
– А где Рейхстаг? Вы что, его снесете?! – испугалась Лени.
– Дядя Алекс, вообще-то, собирался. А что, стоит после пожара как руина. Зайка твой, пардон, Свинчик, отстоял. Говорит, пусть стоит в назидание потомкам. Вот же он, смотри.
Эрик показал на какую-то невзрачную малюсенькую коробочку. Рядом Лени разглядела Бранденбургские ворота, выглядевшие и вовсе как насмешка.
Город был чужим.
– Напоминает Древний Рим. До падения, – пошутил Макс.
– У шефа есть «теория ценности руин», – задумчиво сказал Эрик. – Он ее придумал, когда увидел остатки взорванного трамвайного депо в Нюрнберге, там нужно было расчищать место для трехсотметровой почетной трибуны. Груды серого бетона и ржавая арматура – что хорошего по этому поводу могут сказать потомки? Поэтому важнейшие сооружения мы будем строить из гранитных блоков по античному образцу. Чтобы, «как развалины Древнего мира они могли и через тысячу лет поведать о великом прошлом».
Хьюберт неожиданно вытащил маленький фотоаппарат.
– Спрячь, – Макс даже изменился в лице. – То, что вы здесь, кое-кого может сильно расстроить. Без ковроедовой санкции все это строжайше запрещено показывать.
– Нам придется теперь выколоть тебе глаза, – пообещал Георг.
– Шеф даже отца тайком приводил, – смягчил ситуацию Эрик. – Он же у нас архитектор в третьем поколении.
– И как ему это? – спросила Лени.
– Вздохнул и сказал: «Безумие, да и только».
– Но как же на такое безумие согласились городские власти? – не могла понять Лени.
– Душка твой кого хочешь обманет, – подмигнул Эрик. – Для него кумир – Жорж Осман, который Париж в прошлом веке перестроил. Твой же бредит Парижем и хочет во всем его переплюнуть. Для него Берлин – так, суетливое скопление домов. Осман действовал радикально, пробивал магистрали и бульвары по живому. Ухлопал аж два с половиной миллиарда золотых франков! Понятно, сопротивление ему было нешуточное. Предвидя такие же трудности, Гитлер пошел на хитрость. Объявил, что хочет видеть новую столицу рейха в Мекленбурге. Отцы города засуетились – не дай бог правительство покинет Берлин! А он и дальше масла в огонь подлил, нет, возведем столицу с нуля, как Вашингтон! Из ничего возникнет идеальный город! Тут уж совсем все с ума посходили, в итоге согласились и на реконструкцию, и кошельки открыли.
– И когда… эта сказка станет былью? – спросил Хьюберт.
– В тысяча девятьсот пятидесятом году. Будет торжественное переименование Берлина в город GERMANIA. Гитлер его уже называет не иначе как Столица Мира, которая должна соответствовать величию своей миссии. А мы все вместе поедем в кругосветное путешествие.
– А вы уверены, что люди захотят тут жить? Вам ведь придется снести для этого почти весь город!
– Лени, мне даже страшно об этом подумать, – тихо сказал Георг.
Ей стало не по себе, архитекторы прошли в свой угол. На этот раз первые звуки были словно замороженные. Они никак не могли поймать волну. Это были просто архитекторы, слегка пьяные, которые старались играть на гитарах. Выходило что-то вязкое, вынимающее всю душу. За первые десять минут Лени устала так, словно работала в монтажной двое суток без перерыва. Дальше так она не могла.
Лени вскочила, встала перед ними и начала танцевать. За нее и зацепился первый рифф, она излучала столько энергии, что казалось – любая частичка воздуха уже не двигается в этом зале сама по себе – все было поляризовано ее танцем, и вскоре их вибрации слились. Было уже непонятно, откуда что переливается, из танца в музыку или наоборот – они были, как пятерка дервишей, в своем потустороннем танце.
В какой-то момент они словно перешли горный хребет. Из напряженной стоячей волны музыка разрешилась в простую мелодию, будто бы спустившись с неуютной вершины в тихую долину. Мелодия эта была из разряда вечных – ничего придуманного, ничего лишнего. И мир они в это мгновение вдруг ощутили простым и вечным, где не существовало времени, где вопросы, еще не заданные, сразу превращались в ответы.
Музыка ушла. Их не было полтора часа. Тут Лени заметила, что Хьюберт, видимо, тоже не сидел на месте.
– Лени, твой танец был колдовским, – улыбнулся Макс. – То, от чего бредит вся Германия, – твой знаменитый танец у моря из «Священной горы» – просто ничто по сравнению с ним. Вот что тебе нужно снимать в следующий раз. Слушай, а ты что, в том фильме, танцевала без музыки? Там же были одни скалы и море.