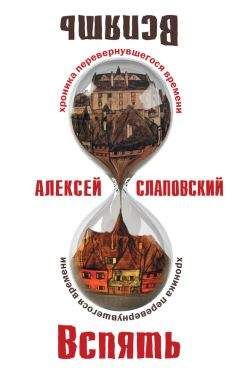Подобного никогда больше не было у него — как и у Талия. Талий только почему-то не может вспомнить сейчас, чей приступ был раньше — его или отца? Наверное, все-таки его: если б он видел отцовский, то сдержался бы. А может, раньше был отцовский, не ставший, однако, примером, ибо все, делаемое нами точно так же, как делали другие, кажется нам не таким — ведь мы-то не такие!
Талий рано понял, насколько неприятно действуют на него отклонения от заведенного им самим распорядка. Он рано понял, что выхода два: или устроить распорядок жизни таким, чтобы никто его не мог нарушить — или пересилить себя и сделать свою жизнь нормально-беспорядочной, как у всех. Но первое почти невозможно. Остается — второе.
Исполнить план он не мог при родителях, при отце то есть.
Отец умер.
Но он и при матери не мог.
Матери не стало.
И Талий вместе с окончательным сиротством узнал, что такое кощунственная радость этого сиротства.
Он работал уже в то время в музее — как и по сей день. Но друзья поры студенчества остались — изнывающие от ограниченных возможностей для молодежного веселья в тесных условиях социалистического общежития. То поколение в то время вообще расставаться с беззаботностью юности не желало лет до тридцати, а кто и дольше. Талий стал усердно зазывать друзей в гости, они приходили с вином и подругами, и скоро стало в квартире то, что вызванный по жалобам соседей участковый милиционер в протоколе назвал: „притон“. Он имел в виду юридический термин, он хотел выслужиться, ему мечталось из бытового хулиганства состряпать настоящее уголовное дело, главой угла которого было бы как раз „притоносодержательство“. Никакой злобы он не имел против Талия, равно как и не имел никаких к Талию симпатий молодой адвокат, которому тоже хотелось выслужиться и блеснуть, и он в два счета доказал, что в возбуждении уголовного дела должно быть оказано: для статьи о притоносодержательстве нет таких квалификационных фактов как хранение в квартире значительных запасов спиртного и продажа оного по спекулятивным ценам в неурочное время, не было и карточной игры на деньги, сводничества — и т. п., поэтому все укладывается в рамки аморального поведения отдельной растленной части нашей молодежи, подвергшейся влиянию Запада, каковое (поведение) тоже может быть осуждено, но по статьям не страшного уголовного, а — гражданского кодекса.
Нет, были в советское время бескорыстные люди, были.
И Талий отделался лишь письмом из милиции на работу с рекомендацией принять меры административно-воспитательного характера: тогда очень в ходу были подобные письма.
Директор музея Ирина Аркадьевна даже очки сняла, перечитывая это письмо, — словно с помощью близорукости своей могла прочесть не то, что увидела ясным зрением сквозь очки.
— Поверить не могу! — сказала она. — Вы?!
— Ничего особенного, — сказал Талий. — Просто соседи склочные нажаловались в милицию, у одной старушки племянник милиционер, вот он и постарался.
— Да, да… Но мы должны реагировать как-то. Тут написано: о принятых мерах общественного воздействия сообщить — и адрес.
— Напишите, что объявили мне выговор. Проверять никто не будет.
— А вдруг? Нет, выговор дело серьезное, я тогда должна его на самом деле объявить. Лучше — ну, какое-нибудь общественное порицание на собрании коллектива, хорошо? Но как бы это им мало не показалось?
— Тогда уж лучше выговор, — сказал Талий.
— Вам легко говорить! — рассердилась и расстроилась бедная Ирина Аркадьевна. — А мне — решать!
Страдая, она пошла-таки на подлог: отписала в милицию, что работнику музея мл. научному сотруднику Белову В.П. объявлен выговор и он лишен премиальных. На самом деле выговора не было, а о каких-то премиальных в музее и говорить смешно. Но в милиции бумажку съели, не подавившись. Об одном просила сердечно Ирина Аркадьевна: чтоб больше таких недоразумений не было.
И их не стало. Отшумели шумные компании, а если кто заходил на огонек, Виталий просил иметь в виду склочных соседей.
И чуть было не воцарился в жизни его опасный пордок: на работе все гладко, пишет научные статьи, учится заочно в аспирантуре, диссертацию кандидатскую готовит на историко-этнографическую тему, но тут возникла Ленуся.
Возникла она вместе с Сославским. Сославский двух привел: эта, которая брюнетка, сказал, Ленуся, а которая блондинка — Леночка. Я с Леночкой, а тебе — Ленуся. Если ты ей понравишься.
— Уже понравился, — сказала пьяненькая Ленуся. — Мне сегодня все нравятся.
И была ночь невинно-бессовестная (так обозначена она в памяти Талия), когда Ленуся куражилась над ним, радуясь безмерно его застенчивости и кричала Леночке, чтобы та пришла посмотреть, как большой и взрослый мальчик краснеет, когда с ним ничего особенного не делают. Леночка через некоторое время и впрямь пришла, сказала, что Сославский, сволочь, заснул и ей скучно. Присоединилась к Ленусе — чтобы с ней на пару скуку избывать.
Наутро девушки исчезли, и Талий, не жалея о них, благодарен даже был Сославскому, что тот дал ему возможность прикоснуться к разврату (ах, хорошо, хрустко, бодряще звучит!) — настоящему, который позволил ему пробить брешь в собственной надоевшей добропорядочности — и любви к порядку.
Ленуся через неделю вдруг явилась среди ночи, переполошив всех соседей, обзвонив их поочередно.
— Подъезд помню, а квартиру нет, — простодушно сказала она. — Жрать хочу и спать.
Оказалась она из другого города, училась кое-как в политехникуме, была девушка совсем простенькая — какой-то непостижимой для Талия простотой.
— Ты совсем один, что ли, живешь? — спросила она наутро.
— Совсем один.
— А мама-папа где?
— Умерли.
— Повезло! Я не в смысле, что умерли, а в смысле, что один. А почему не женишься?
— Куда спешить?
— Это правильно. А то женись на мне.
— Спасибо, — улыбнулся Талий. — Но, говорят, чтобы жениться — надо, вроде бы, любить — и так далее.
— Нет, но я же тебя тоже не люблю! — возразила Ленуся. — Так что мы будем на равных. Ведь интересно же, наверно, жениться — для пробы хотя бы. И я бы замуж вышла, чтобы знать, как это — когда замужем. А если боишься, что я хочу у тебя прописаться и квартиру отнять — и правильно делаешь, между прочим, — мы можем не регистрироваться, а просто пожить. Как будто муж и жена. А то мне в общежитии до смерти надоело. Нет, я общительная вообще-то, но так тоже нельзя. Там сто рыл — и у каждого день рождения каждый день. И все зовут — потому что я общительная и веселая. Ну, и красивая вообще-то, не без этого, а?
— Не без этого, — согласился Талий.
— Ну вот. Ты подумай: если день рождения каждый день, это и спиться можно и что хочешь. Гонорею даже подцепила один раз уже, но давно, теперь я уже осторожно. Хочешь, справку принесу из вендиспансера? Поживу хоть как нормальная. И ты тоже — чтобы постоянная девушка была, это и для здоровья и чтобы тоже какую-нибудь заразу не подцепить. То есть — взаимовыгодно! — заключила Ленуся и засмеялась.
Талий подумал.
С одной стороны — очень непривычно будет. Чужое тело рядом вечером ложится и утром рядом его обнаруживаешь. В ванной плещется. В туалете, — Господи, глупости в голову какие лезут, — сидит… Разговоры разговаривать начнет, когда он читает. В кино звать… С другой стороны, он слишком уж закоренел в одиночестве, слишком уже стал привыкать к нему. Это плохо.
— Ладно, — сказал он Ленусе. — Живи. Зарабатываю только я немного, это учти.
— А у меня даже и стипендии нет. Ничего, как-нибудь.
Это как-нибудь далось Талию трудно.
В квартире воцарился хаос: всюду валялись вещи Ленуси, дверцы шкафа нараспашку, стул поперек встал, пройти мешает, Ленуся вместо того, чтобы убрать на место, довольно гибко и изящно, надо признать, всякий раз огибает его… Готовить она не умела и не собиралась учиться. Уходила когда хотела, приходила — тоже. Вдруг в полночь приведет какую-то подругу, запрутся в кухне, пьют портвейн, горячо что-то обсуждают. Или примчалась — тоже в полночь, сорвала с себя куртку, бросила на пол, стала ходить по комнате и кричать: „Сволочь! Сволочь!“ — а потом потребовала, чтобы Талий тут же пошел и набил морду — ну, одному там. Если он мужчина, он тут же пойдет и набьет ему морду. Талий собрался — и с неохотой, и странно довольный возможности погрешить против распорядка: куда-то зачем-то бежать среди ночи, бессмысленно, но с тем глупым азартом, которому он иногда у некоторых людей завидовал… И они быстро пошли ночными улицами, зашли в темный подъезд какого-то дома, стучали в дверь первого этажа, потом стучали в окна, Ленуся кричала, вызывая какого-то Пашку, обзывая его всячески, соседи кричали, обещая вызвать милицию, Пашка не вышел — да и был ли он там? — Ленуся на прощанье разбила темное окно обломком кирпича…, а позже гладила грудь Талия и говорила: „Ты храбрый, а я дура. Дура я, из-за пустяков волнуюсь. Ты меня прости.“