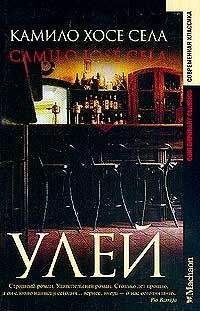знакомым. — Привет!
Девушка секунду смотрит на него и идет дальше. Она очень молодая и миленькая. Одета бедно. Наверно, шляпница — у всех шляпниц аристократический вид, это уж закон: все хорошие кормилицы — из Паса, все хорошие поварихи — из Бискайи, а все славные миленькие девушки, умеющие одеваться и держаться с изяществом, — шляпницы. Мартин Марко медленно спускается по бульвару к церкви святой Варвары.
Официант не торопится вернуться в кафе, он еще с минуту стоит на улице.
— Шляются тут без единого реала! Прохожие идут быстрым шагом, кутаясь в плащи, спеша укрыться от холода.
Мартин Марко, человек, не заплативший за кофе и глядящий на город глазами больного, забитого ребенка, засовывает руки в карманы брюк.
Огни на площади сверкают резким пронзительным светом.
Дон Роберто Гонсалес, подняв голову от толстой счетной книги, обращается к хозяину.
— Вы не смогли бы дать мне три дуро в счет жалованья? Завтра у моей жены день рождения.
Хозяин — человек добродушный, порядочный, он, правда, обделывает кое-какие дела, но не больше, чем другие, и сердце у него отзывчивое.
— Конечно, могу. Разве для меня это трудно?. — Очень вам признателен, сеньор Рамон.
Булочник вытаскивает из кармана пухлый бумажник телячьей кожи и дает дону Роберто пять дуро.
— Я вами очень доволен, Гонсалес, счета булочной в отличном состоянии. На эти два лишних дуро купите детишкам какой-нибудь гостинец.
Сеньор Рамон вдруг умолк. Он чешет себе затылок и, понизив голос, добавляет:
— Ничего не говорите Паулине.
— Не беспокойтесь.
Сеньор Рамон смотрит на носки своих сапог.
— Я это не зря сказал, вы понимаете? Я знаю, вы человек толковый, язык не распускаете, но мало ли что, можете случайно проговориться, и начнется катавасия недели на две. Конечно, хозяин здесь я, но эти женщины, сами знаете, какие они…
— Не беспокойтесь, очень вам благодарен. Я ни слова не скажу, сколько бы она ни выпытывала. — Дон Роберто понижает голос: — Очень вам благодарен…
— Не за что. Я одного хочу, чтобы вы работали с охотой.
Слова булочника трогают дона Роберто до глубины души. Еще несколько таких ласковых фраз, и дон Роберто согласился бы вести счета булочника даром.
Сеньору Рамону дашь на вид года пятьдесят два, это плотный, румяный, усатый мужчина со здоровым духом и здоровым телом, он держится почтенных обычаев исконного ремесленника, встает на заре, пьет красное вино и щиплет за бока своих работниц. Когда в начале века он приехал в Мадрид, сапоги свои он нес на плече, чтобы их не стоптать.
Его биографию можно изложить в нескольких строках. В столицу он явился мальчиком восьми-десяти лет. Устроился на работу в пекарню и до двадцати одного года, пока его не призвали в армию, копил деньги. С приезда в столицу и до армии он не истратил ни одного лишнего сентимо, все откладывал. Ел хлеб, запивал водой, спал под прилавком и не путался с женщинами. Отправляясь на военную службу, положил свои деньги в сберегательную кассу, а когда вернулся, забрал их и купил булочную; за те двенадцать лет он скопил двадцать четыре тысячи реалов, все, что зарабатывал — в среднем чуть больше одной песеты в день. На военной службе он научился читать, писать, считать и потерял невинность. Потом открыл булочную, женился, народил дюжину детей, купил себе календарь и принялся безмятежно созерцать течение времени. Древние библейские патриархи, наверно, были во многом схожи с сеньором Рамоном.
Официант входит в кафе. Лицо его вдруг начинает гореть, в горле першит, он закашливается, но совсем тихонечко, — просто надо избавиться от мокроты, что на холоде скопилась в горле. Теперь как будто и говорить легче. Входя в помещение, он ощутил боль в висках и заметил — или это ему показалось, — что у доньи Росы под усиками трепещет сладострастная улыбка.
— Иди-ка сюда.
Официант приблизился.
— Всыпал ему?
— Да, сеньорита.
— Сколько?
— Два.
— Куда дал пинки?
— Куда пришлось, по ногам.
— Правильно. Вот наглец!
У официанта пробегает озноб по спине. Будь он человеком вспыльчивым, он бы свою хозяйку придушил, но, к счастью, он не таков. Хозяйка злобно хихикает. Есть люди, которым доставляет удовольствие смотреть на беду других; чтобы всласть наглядеться, они отправляются в кварталы бедняков, раздают всякое старье умирающим да чахоточным, укутанным в грязные одеяла, анемичным детям со вздутыми животиками и размягченными костями, девочкам, ставшим матерями в одиннадцать лет, сорокалетним шлюхам, изъеденным сифилисом и похожим на покрытых коростой индейских касиков. Донья Роса к таким людям не принадлежит. Донья Роса предпочитает наслаждаться дома, такая, знаете ли, приятная дрожь пробирает…
Дон Роберто радостно ухмыляется — а он-то тревожился, что в день рождения жены у него и реала не будет в кармане. Вот ужас!
«Завтра преподнесу Фило коробочку конфет, — думает он. — Фило — настоящий ребенок, ну прямо маленькая шестилетняя девочка… На десять песет куплю игрушку детям и выпью рюмочку вермута… Им, наверно, хочется мячик… За шесть песет можно купить приличный мяч…»
Дон Роберто размышляет не торопясь, со смаком. Он полон добрых намерений, неопределенных мечтаний.
В окошко булочной сквозь стекла и деревянные рамы врываются резкие, визгливые звуки уличного пения, сразу даже не поймешь, кто поет — женщина или ребенок. Дон Роберто прислушивается к мелодии фламенко [14], почесывая подбородок кончиком ручки.
На противоположном тротуаре, у входа в кабачок, надрывно распевает мальчик:
Бедняжка, кто из рук чужих
кусочка хлеба ждет,
кто ловит взгляд недобрых глаз —
дает иль не дает?
Из кабачка ему швыряют несколько медяков и горсть оливок, которые мальчик проворно подбирает с земли. Смуглый худенький мальчишка, быстрый, как воробышек. Он бос, грудка открыта, на вид ему лет шесть. Поет без аккомпанемента, прихлопывая в ладоши и поводя в такт тощим задиком.
Дон Роберто закрывает форточку и останавливается посреди комнаты. Он думает, не позвать ли ребенка и не дать ли ему реал.
— Нет…
Послушавшись здравого смысла, дон Роберто снова обрел оптимизм.
— Да, конфеты… Фило — настоящий ребенок, ну прямо как…
Хоть у дона Роберто в кармане всего пять дуро, совесть его не вполне спокойна.
«Просто вздумалось тебе видеть жизнь в черном свете, не так ли, Роберто?» — говорит где-то у него в груди робкий дрожащий голосок. — Ладно уж.
Мартин Марко остановился у витрины магазина санитарного оборудования на улице Сагасты. Магазин сверкает, как ювелирная лавка или как парикмахерская в шикарном отеле, умывальники блещут неземной, прямо-таки райской красотой — как сияют их краны, как лоснятся мраморные плиты и ослепляют чистейшие зеркала! Есть умывальники белые, умывальники зеленые, розовые, желтые, лиловые, черные, умывальники всех цветов. И выдумают же! Роскошно отсвечивающие, как брильянтовые браслеты, радужно искрятся ванны, вот и биде с целым набором ручек, будто в автомашине, шикарные унитазы с двумя крышками и пузатыми, элегантными бачками, на которые, наверно, очень удобно облокотиться, можно даже положить несколько хороших книг в изящных переплетах: Гёльдерлин, Китс, Валери, на случай если у тебя запор и тебе нужно общество; а при расстройствах желудка — Рубен, Малларме, да, особенно Малларме. Фу ты, какое свинство!
Мартин Марко улыбается, словно извиняясь, и отходит от витрины.
«Вот это и есть жизнь, — думает он. — На те деньги, которые кто-то тратит, чтобы с комфортом справлять свои нужды, другие могли бы кормиться целый год. Славно устроено! Если уж затевать войны, то для того, чтобы поменьше людей справляли свои нужды с комфортом и чтобы все прочие могли получше питаться. Беда в том, что мы, интеллигенты, — всякий знает почему — по-прежнему питаемся плохо и справляем свои нужды в каком-нибудь кафе. К черту все это!»
Мартина Марко интересуют социальные проблемы. В голове у него порядочный сумбур, но социальные проблемы его интересуют.
«То, что существуют бедные и богатые, — говорит он иногда, — это плохо; было бы лучше, чтобы все мы были равны, чтобы не было слишком бедных и слишком богатых, а так, все среднего достатка. Надо переделать человечество. Следовало бы назначить комиссию ученых, пусть придумают, как изменить человечество. Вначале они бы занялись делами помельче, ну, например, обучением народа метрической системе, а потом постепенно вошли бы во вкус и взялись бы за дела более серьезные, пожалуй, смогли бы даже распорядиться, чтобы города были разрушены и отстроены заново, тогда все они будут одинаковой величины, с прямыми улицами и центральным отоплением во всех домах. Возможно, это обошлось бы недешево, но, я думаю, в банках должны быть излишки денег».