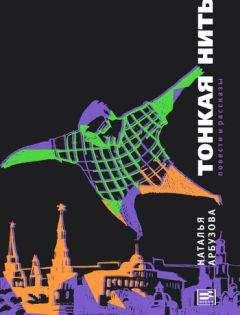У меня в постижении литературного мастерства все идет со скрипом, как бывало у Нестреляева в любовных историях. Я так ясно вижу этих двоих, но убей – не слышу, что они говорят. Маргарита спросила мастера: «Вам нравятся мои цветы?» А эта ничего не сказала, только поскорей отсмеялась уже вслух и, перестав давиться смехом, с трудом привела лицо в приличное состоянье. Нет, надо же, когда он продолжал на нее смотреть, она извинилась. Так и сказала: «Извините, ради бога». В голосе было что-то щебечущее. Ну, тут уж Нестреляев нашелся. Он заверил ее, что в жизни не слыхал такого прелестного смеха и был бы рад рассказать ей что-нибудь веселое, чтобы вызвать его опять. Это Нестреляев-то, который всегда был кислый, как лимон. А тут откуда что взялось. Но она улыбнулась милой улыбкой, сказала, что уже пришла домой, и взялась за ручку двери. Так Нестреляеву безо всякой помощи его таинственного интернета был сообщен с точностью до подъезда адрес его единственной любви. Я уже вынуждена признать эту женщину в таком качестве. Пока она исчезала в недрах старого дома, Нестреляев в глубине своей преображенной головы увидел ее всю, как тогда я его на Автозаводской улице. И увиденное было очень хорошо.
Блаженны чистые сердцем, ибо они узрят не токмо Бога, но, может статься, и земное свое божество, как случилось в данном случае с Нестреляевым. Что ж, chaque vilain trouve sa vilaine, скажу я с досадой, поскольку вышло не по-моему. Но, видно, я распоряжаюсь лишь отделкою текста, сюжет же приходит помимо меня.
Так вот, свалившийся мне на голову молодой Нестреляев обегал за день всю Москву, щедро тратя радость. Его эмоциональный спектр уже относился не к тридцати годам, а скорее к пятнадцати, хотя внешне он застабилизировался на отметке 30. В его суперголове все пополнялось блестящее досье на новую знакомку.
Ей 30 лет. Она родилась в 1941 году. Значит, сейчас все-таки 1971 год. Он все боялся прямо об этом спросить свое ГИП. Но теперь в этом не совсем 1971 году с ним еще одно существо, правда, тоже немного фантастическое. Отныне их тут двое. И каких двое! Так интровертный человек, собравшись куда-то на экскурсию и придя, по своему обыкновению, ранее других, никак не может успокоиться. Он убедится, что пришел в нужное время и в нужное место, лишь тогда, когда дождется хотя бы одного попутчика. Значит, 1971-й. Но откуда тогда эти островерхие крыши и мансардные окна? Когда же он запросил ее имя, ему ответили буквально следующее: «Что в имени тебе моем?» У Нестреляева сердце упало. Si tu ne existe pas… Общие соображенья об ирреальности счастья роились в его голове. Суперинтернет же все не мог успокоиться, как растревоженный муравейник, и сыпал ему новую относящуюся к делу информацию. Но имени не выдал. Остальное все было так нестандартно, с отклонениями в хорошую сторону, что Нестреляев охотно позволил убаюкать свои сомненья.
Он не любил дамочек. Тех, которых Пеппи Длинныйчулок определяла как носящих вуалетку и имеющих двойной подбородок. Терпеть не мог гиперженственности. Как только это свойство намечалось в «ней», флаги его радости никли. А в этой общечеловеческое забивало женское. Человек вообще.
Конечно, да, Нестреляев не говорил об этом, он не жаловался никогда никому, даже ночным теням на пустых улицах, но он твердо знал, что иметь любовь и не иметь ее – жизни и смерти подобно. По тому, есть она у вас или нет, определяется, на каком вы свете. Если, кроме жизни и смерти да судьбы России, он больше ни о чем не пытал высшие небесные инстанции, то это только потому, что с любовью он рано не своей волей распростился. И, друг заботливый, больного в его дремоте не тревожь.
Так, в растрепанных чувствах, Нестреляев пробегал до весенней темноты. Вот он опять на улице Народного Ополченья. Ноги несут его в ту же обожаемую нору, вырытую им к шестидесяти годам, полжизни тому вперед. Опять идет один посреди мостовой, и никого кругом, все рано для 1971 года заперлись в квартирах. Идет и горланит: «О, долго буду я в молчанье ночи тайной…» Прямо как молодой Ионыч. Только тот, кажется, пел: «Мой голос для тебя и ласковый и томный». Вдруг до него дошло, что рядом кто-то вертится, как пудель подле Фауста. Тьфу, помолодевший Агасфер, немного похожий на кудрявого Иуду. Подбирается кругами с явным намереньем его, Нестреляева, восхитить. Вот и наручники брякнули под обветшалой тканью. Нестреляев насупился и сказал сурово: «Поди, поди, Бог подаст». Он теперь стал силен и нахален. Агасфер исчез, как сквозь землю провалился. Окончательного прощения он явно не получил. Правда, его немного поновили. Подумавши, Нестреляев понял, что и от него самого наверху квитанции не потеряли. Так что особенно драть глотку нечего. И он пошел дальше молча, трепеща за свое новенькое счастье, как трепетал с первого его мгновенья.
В окне его кухни горел свет и неспешно двигалась сутулая фигура. Взвинченный Нестреляев сейчас не подумал, что вора лучше не заставать на месте преступленья – бог знает, как он себя при этом поведет. Открыл дверь единственным ключом, что был у него в кармане. Увидал всего-навсего дядю Игоря из соседней квартиры, рабочего горячего цеха, периодически подвергавшегося принудительному леченью с диагнозом алкоголизм. Ключ от нестреляевской квартиры у соседа, по-видимому, давно был. Наш голубчик имел обыкновенье забывать его снаружи в замочной скважине. Однажды ключ исчез, а Нестреляев не удосужился сменить замок. Оставлял он также время от времени на крючке у двери сумку с продуктами, и дядя Игорь уже привык заглядывать в чужой тамбур, как прикормленная рыбка. Сейчас этот князь Игорь вынимал из морозилки нестреляевские сосиски. Увидавши хозяина квартиры, закрестился и зачурался: «Свят, свят, свят! С нами крестная сила! Я тебя, Серега, нынче сам мертвым видел – тебя машина сшибла. Чур, чур меня! Подь на тот свет!» Тут испитой, прозрачный дядя Игорь, основная болезнь которого осложнялась диабетом, собрал откуда-то силенки. Выпер грудью растерявшегося Нестреляева на лестницу и в мгновение ока защелкнул предохранитель старенького английского замка. Нестреляев не сообразил применить новую свою силушку – потеснить, пока не поздно было, дядю Игоря или же разнести собственную дверь. Слова соседа, коих смысл был темен, он всецело приписал действию белой горячки. Покрутился на площадке, повернулся, пошел сначала из подъезда, потом со двора и, уже уйдя по уши в мысли о своем счастье – на Сокол, в коммуналку, в предыдущее свое пристанище.
Ноги несли его легко. Вот она глядит из ночного тумана светлым пятном – легкие волосы лучатся. Эльф женского рода. Сильфида. Теперь и имя ей найдено, другого не надо. Существует ли, не исчезнет ли? А что, если у нее взять анализ крови, как советовали в «Солярисе»? Нет, нет, ни за что. Пусть всегда шелестит своими эфемерными крылышками. Тронуть – все рассыплется. Она из тонких миров.
Рыбак рыбака видит издалека. Своих, дурнолюбимых, Нестреляев всегда различал в толпе. Mal-aimé и смеются, и веселятся особым образом. До таких женщин ни у кого руки не доходят, слишком в стороне они держатся. А эта вообще как айсберг – основная глыба ее достоинств остается под водой. У нее другая пропорция, не как у всех, выдаваемого на-гора и оставляемого в пласте. Она нарочно не хочет казаться лучше, чем есть, из честности. Ошибается в противоположную сторону, обделяет себя. Все не как у людей. Умеет отказываться от счастья и при этом быть такой радостной. Поразительно. Он сам давно бы скис. Батюшки, уже Сокол.
Верно, Сокол. В той стороне, откуда он шел, прокатился, резвяся и играя, весенний первый гром. Нестреляева уносило байдевиндом с последнего его становища на рубеже двух тысячелетий. Время, оглянувшееся вспять, шумело над его головою, дергая троллейбусные провода. Церковь Всех Святых выступила из мглы белой колоколенкой и вполголоса прозвонила на ветру, чего раньше за ней никогда не водилось. Это только у Хорошевской Троицкой церкви было такое обыкновенье – она высоко стояла. Но сейчас иначе было никак нельзя – Нестреляева надо было вывести из состояния аффекта.
Очнулся – сталинские кирпичные дома глядят на него внушительными подъездами. Нестреляев привычно юркнул в один из них. Код уже был, черт его знает почему, вроде бы не должно его быть. Не было, когда Нестреляев тут жил. Это из той же серии подозрительных сбоев – меланж времен. Но Нестреляеву с его встроенным в мозг суперкомпьютером на код было раз плюнуть. Тот же единственный ключ открыл и эту дверь. Такое должно было бы тоже насторожить Нестреляева, однако ж не насторожило. Похоже, он приготовился пройти сквозь время, как нож сквозь масло. Ан не вышло.
Ключ-то был все тот же, но другой сосед возник на пороге, весь окутанный грозовым облаком. Сосед не по площадке, по квартире. Внутренний враг. Куды тебе слабогрудый дядя Игорь. Этот сосед будет почище чеченского полевого командира. Форменный Пашка Тигролапов. Вот так, бывало, материт и дерется, дерется и материт. А надо тебе сказать, милый мой читатель, что было уже около полуночи – самое бесовское время. Нестреляев мысленно перекрестился, собрал свою новую силушку – ну так, с осьмушку богатырской, уж сколько Илье не жалко было уделить, он еще нагуляет во чистом полюшке. Поднажал на своего многолетнего мучителя, неукоснительно осуществлявшего в коммуналке диктатуру пролетариата. Бывало, и получасовое отсутствие в квартире Пашки Тигролапова казалось Нестреляеву незаслуженным праздником. Остальное соседство тоже было не из приятных. Настоящие советские люди, которые всегда хотят неблагополучия ближнего более, нежели собственного благополучия.