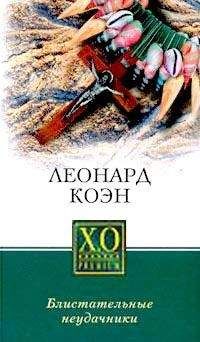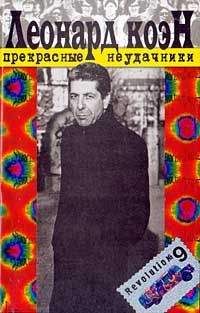– Ты слюни распускал.
– Разве это не отличное местечко? Здесь так спокойно! Мы перенеслись в будущее. Скоро богачи станут строить такие места на своей земле и ходить туда при луне. История свидетельствует, что людям нравится размышлять, бездельничать и заниматься любовью там, где когда-то кипела бурная деятельность.
– Что же ты собираешься со всем этим делать?
– Заглядывать сюда время от времени. Подметать буду иногда. Трахну кого-нибудь на блестящем столе. С машинами играть.
– Ты бы мог стать миллионером. Газеты писали, что ты с блеском проворачиваешь финансовые операции. Должен тебе признаться, за эту сделку тебе можно многое простить из того, что ты за эти годы натворил.
– Тщеславие, дружок! – прокричал Ф. – Я хотел узнать, достанет ли мне сил провернуть это дело. Мне надо было выяснить, даст ли это хоть какое-то удовлетворение. Наперекор всему, что я знал! Ларри думал, у меня кишка тонка, был уверен, что я не потяну. Не верил, что я свое детское обещание выполню! Прошу тебя, никогда не увязывай этот вечер со всем, что я тебе говорил.
– Не кричи, Ф.
– Извини. Я хотел понять, что такое реванш. Я хотел быть американцем. Думал всю свою жизнь с этим вечером связать. Это совсем не то, что имел в виду Ларри.
Положив руку на плечо Ф., я задел стойку с плечиками. Монетки забренчали уже не так резко – помещение было поменьше, позади стучал мотор, и громилы куда-то отступили, когда мы застыли в объятии безысходного одиночества.
Катерина Текаквита копошится в плотной тени длинного дома. Эдит, покрытая нелепой раскраской, корчится в спертом воздухе нашей комнаты. Ф. орудует метлой на своей новой фабрике. В полдень Катерина Текаквита не может выйти наружу. Когда она все-таки выбирается на свет Божий, тело ее обернуто одеялом – как мумия, еле ноги волочащая. Так проходило ее девичество, вдали от солнца и гомона охоты, она только и видела, как усталые индейцы едят да сношаются, а в голове громче всякой музыки звучал образ непорочной Девы Марии, трепетный, как лань, о которой ей доводилось слышать. Что еще слышала она громче стонов, слаще храпа? Ей, должно быть, были хорошо известны правила игры. Она не знала, как охотник загонял добычу, но каждый день видела, как он, развалившись, сидел с набитым брюхом, а потом рыгал, занимаясь любовью. Она видела приготовления и результаты, но чудесный вид, открывающийся с вершины горы, был ей неведом. Она часто наблюдала совокупление, но не слышала песен без слов, звучащих в лесу, не знала скромных даров полевых цветов. Постоянно сталкиваясь с низменными проявлениями механизмов человеческого бытия, она должна была создать образное и яркое представление о небесах – и остро чувствовать ненависть к заземленной рутине повседневности. Но этого мало, чтобы раскрыть тайну утраты мира. «Dumque crescebat aetate, crescebat et prudentia» [20], – писал отец Шоленек в 1715 году. Это, должно быть, больно? Почему ее видение мира не стало раблезианским? Ее нарекли именем Текаквита, но точное значение этого имени до нас не дошло. «Та, которая все приводит в порядок», – считал аббат Марку, старый миссионер из Кагнаваги. Аббат Куок, монах-сульписианец, хорошо знавший жизнь индейцев, дал такой перевод: «Celle qui s'avance, qui meut quelquechose devant elle» [21]. «Ta, которая движется в тени, протянув руки вперед» – так казалось отцу Леконту. Или, допустим, ее имя представляло собой комбинацию двух понятий: «Та, которая, двигаясь вперед, приводит в порядок тени». Вполне может статься, Катерина Текаквита, что я к тебе приду именно таким образом. Как добрый дядюшка, пригревший сиротку. После эпидемии чумы вся деревня переселилась на милю вверх по Реке могавков, туда, где она сливается с рекой Орье. Новое селение назвали Гандаваге – слово из языка гуронов, которым миссионеры называли водопады или пороги, Ганаваге – так оно звучало на диалекте могавков, и Канаваке, позже переделанное в современное Кагнавага. Это я так свой хлеб отрабатываю. Здесь она и жила со своим дядей, его женой и сестрами в длинном доме, который он возвел, в одной из главных построек селения. Ирокезские женщины много работали. Охотник никогда не тащил за собой свою добычу. Он вспарывал брюхо зверя, вытаскивал оттуда сколько мог унести внутренностей и, пританцовывая, возвращался домой, по пути разбрасывая там и сям кишки – одна с ветки дерева свисала, другая с куста.
– Я убил, – объявлял он своей жене.
Та следовала по склизким стопам мужа в лес и в качестве награды за находку убитого зверя должна была волочь его тушу обратно к мужу, который уже дрых у костра с набитым брюхом. Женщины делали большую часть всей черной работы. Единственными занятиями, не ущемлявшими достоинства мужчин, были война, охота и рыбная ловля. В остальное время они курили, сплетничали, играли, ели и спали. Катерина Текаквита любила работать. Все другие девушки спешили покончить с делами как можно скорее, чтобы потом поплясать, пококетничать, расчесать волосы, лица разрисовать, сережки надеть и убрать себя разноцветным бисером. Они носили роскошные меха и расшитые гетры, украшенные бусинами и колючками иглошерстов. Какая прелесть! Не приударить ли мне за одной из тех девиц? Слышит ли Катерина, как они пляшут? Как было бы здорово с одной из танцовщиц поближе познакомиться! Мне не хочется беспокоить Катерину, хлопочущую в длинном доме, когда каждый взмах обтянутой в гетру ножки прочерчивает горящий след в ее сердце. Девушек мало волнует завтрашний день, а Катерина свои дни словно бусины ожерелья нанизывает, из теней цепь плетет. Тетки ее настойчивы:
– Вот тебе ожерелье, милая, надень-ка его, дорогуша, и, кстати, почему бы тебе не подкрасить личико твое бледненькое?
Совсем еще девочкой она позволяла себя наряжать, но потом всегда корила себя за это. Двадцать лет спустя она горько плакала, считая те детские наряды самым тяжким своим грехом. Куда это меня заносит? Разве это мой тип женщины? Через какое-то время тетки ослабляли нажим, и она возвращалась к своим повседневным трудам – терла, толкла, молола, носила воду, собирала хворост, готовила на продажу шкурки, причем все это она делала с удивительным чувством самоотдачи. «Douce, patiente, chaste, et innocente» [22], – писал о ней отец Шошетье. «Sage comme une fille franзaise bien élevée»2, – продолжал он. Как благовоспитанная французская девушка! Темны притчи церковные! Ф., ты этого от меня хотел? Или такое наказание ниспослано мне за то, что я не пошел с Эдит туда, куда она манила? Она ждала меня, покрыв тело красной краской, а я боялся за свою белую сорочку. Позже я как-то из любопытства взял ее тюбик и провел на теле блестящую полосу, такую же никчемную, как акрополь Ф. в то злосчастное утро. А теперь я читаю, что у Катерины Текаквиты был дар к вышиванию и всякому рукоделию, что она искусно мастерила прекрасные расшитые гетры, кисеты для табака, мокасины и вампумы [23]. Она могла часы напролет работать с корнями, выделывать кожу угря, творить украшения из раковин, бисера, колючек иглошерста. Причем носили эти украшения все кому не лень, только не она! Для кого же она так старалась, чьему образу поклонялась в воображении своем? Особенно ценились сделанные ею вампумы. Или тем самым она деньгам свое пренебрежение выказывала? Может быть, это презрение давало ей свободу, необходимую, чтобы творить свои модели и цветовые гаммы, как презрение Ф. к торговле позволило ему купить фабрику. Или мне просто не дано их понять? Я устал от фактов, устал от логических доводов, мне хочется сумасбродства. Хочется просто плыть по течению. Меня сейчас не волнует даже то, что происходило под ее одеялом. Мне бы сейчас те поцелуи бесцельные душу согрели. Хочу, чтобы писанину мою хоть кто-нибудь похвалил. Почему мне работается так одиноко? Ночь за полночь перевалила, лифт притих до времени. Линолеум настлан новый, краны не капают – спасибо, Ф., что в завещании обо мне не забыл. Хочу вернуть все оргазмы свои невостребованные. Другую карьеру сделать хочу. Что же я такое с Эдит сотворил, что даже образ ее мою плоть мужскую поднять не может? Ненавижу эту квартиру. Какого черта я ее заново обставлял? Думал, желтый стол здесь будет больше к месту. О Господи, всели же Ты в душу мою страх. Почему сегодня эти двое, что любили меня, так беспомощны? И пупок не помогает. Даже ужас предсмертного бессмыслия Ф. смысл утратил. Интересно, идет сейчас дождь или нет? Мне бы опыта Ф. набраться, его сумасбродства душевного. Не могу припомнить ни одного высказывания Ф. Вспоминается только, как он пользовался носовым платком, как тщательно складывал его и воротил нос от соплей, как пронзительно и с каким удовольствием чихал по несколько раз кряду. Пронзительно и звонко – в чихе его звучал металл, как в высоком тоне музыкального инструмента, как в резком щелчке задвижки, – потом он бросал удивленный взгляд, словно только что получил неожиданный подарок, и вскидывал брови, словно хотел сказать: «Это же надо!» Люди часто чихают, Ф., и нечего на это как на чудо смотреть, меня подавляет твоя гнетущая тяга к чиху и манера есть яблоки, как будто они становятся сочнее, если ты первым в кино крикнешь, что картина отличная. Ты подавляешь людей. Мы тоже любим яблоки. Мне противно думать о том, что ты нашептывал Эдит, и слова твои, скорее всего, звучали так, будто ее тело было первым, которого ты коснулся. Ей было это приятно? Небось, соски твердели. Вы оба умерли. Никогда слишком долго не глазей на пустой стакан из-под молока. Мне не нравится, что творят с архитектурой Монреаля. Куда палатки запропастились? Мне хочется обвинять церковь. Я обвиняю Римско-католическую церковь Квебека в том, что она расстроила мою половую жизнь и запихнула мой член в реликварий для пальца; я обвиняю Римско-католическую церковь Квебека в том, что она принуждала меня к отвратительному гомосексуальному сожительству с Ф., еще одной жертвой системы; я обвиняю церковь в убийстве индейцев; я обвиняю ее в том, что Эдит отказывалась вести себя на мне так, как мне того хотелось; я обвиняю церковь в том, что Эдит красила себя красной краской, а Катерина Текаквита была красной краски лишена; я обвиняю ее в гонениях на автомобили и в том, что выскакивают прыщи; я обвиняю церковь в сооружении зеленых туалетов, где занимаются онанизмом; я обвиняю ее в запрете плясок могавков и в пренебрежении фольклором; я обвиняю церковь в том, что она украла мой загар и от нее усиливается перхоть; я обвиняю ее в том, что она посылает людей с грязными ногтями в трамваи, где они мешают развиваться науке; я обвиняю церковь в женском обрезании во Французской Канаде.