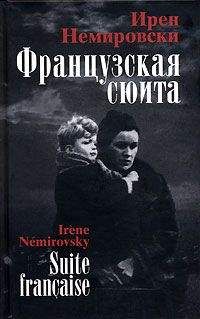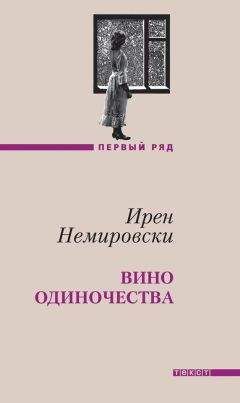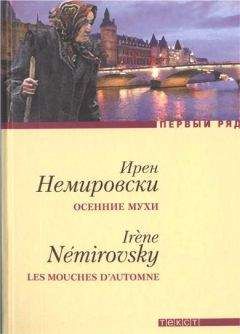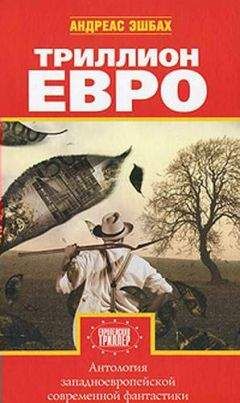Он слабо шевельнул пальцами, его губы приоткрылись, и Глория скорее угадала, чем услышала: «Мне больно…»
— Идемте, мадам, оставим его, — снова предложил Гедалия. — Он не может говорить, но хорошо нас слышит, так, мсье? — добавил он бодрым тоном, незаметно обменявшись взглядом с сиделкой.
Врач вышел на соседнюю галерею. Глория последовала за ним.
— Все это не опасно, не так ли? — спросила она. — Он такой впечатлительный… и слишком нервный… Если бы вы знали, какую ужасную ночь я провела по его вине!..
Доктор медленно и важно поднял маленькую пухлую руку и произнес совсем другим тоном:
— Хочу немедленно внести ясность, мадам! Мой первейший и не-у-кос-ни-тель-ный принцип — не позволять пациентам догадаться, сколь серьезна болезнь… если им грозит реальная опасность… Но близким — увы! — я обязан говорить правду, и мой второй принцип — никогда на скрывать правду от родственников… Никогда! — с силой повторил он.
— Говорите яснее, доктор! Он умрет?
Врач окинул ее удивленно-насмешливым взглядом. «С тобой, как я погляжу, можно говорить напрямик». Он сел, скрестил ноги, слегка откинул голову и ответил беспечным тоном:
— Не сразу, дорогая мадам…
— Что с ним?
— Angor pectoris. — Он с очевидным удовольствием произнес латинское название грудной жабы.
Глория промолчала, и он продолжил:
— Он может прожить еще очень долго — пять, десять, пятнадцать лет, если будет соблюдать соответствующий режим и получать хороший уход. Он должен — само собой разумеется! — отойти от дел. Ему нельзя волноваться и переутомляться. Спокойная, мирная, размеренная жизнь. Полноценный отдых. Отныне и навсегда… Только при таких условиях, мадам, я возьму на себя ответственность за его жизнь, ибо болезнь коварна и, к несчастью, способна преподносить пренеприятнейшие сюрпризы… Мы не боги… — Он мило улыбнулся. — Вы сами понимаете, дорогая мадам, что сейчас с ним об этом говорить ни в коем случае нельзя, он слишком страдает… Однако дней через восемь-десять — будем на это надеяться! — кризис благополучно разрешится… Вот тогда и предъявим ультиматум.
— Но… но это невозможно! — страдальчески воскликнула Глория. — Отойти от дел… Невозможно… Он сразу умрет, — нервно добавила она, видя, что Гедалия не реагирует.
— Успокойтесь, мадам, — улыбнулся врач. — В моей практике я не единожды сталкивался с подобными случаями… Почти все мои пациенты из числа сильных мира сего, если можно так сказать… В свое время я лечил одного очень известного финансиста… Между нами — мои собратья его приговорили… единогласно… Но речь не о том. Он страдал той же болезнью, что ваш муж… Я дал ему те же рекомендации… Родные опасались, что это приведет к самоубийству… Так вот, великий человек все еще жив. А ведь прошло пятнадцать лет! Он сделался страстным коллекционером чеканного серебра эпохи Возрождения. В его коллекции много совершенно изумительных вещей, в том числе кувшин для воды из позолоченного серебра, предположительно работы Челлини, настоящий шедевр… Осмелюсь утверждать, что от созерцания прекрасных и редких вещей он испытывает радость, какой не знал никогда прежде. Можете быть уверены: ваш муж в конце концов тоже отыщет для себя… достойное хобби… как только поправится… Начнет собирать эмали или геммы, будет выезжать в свет. Мужчина — большой ребенок, так что все возможно…
«Какой он идиот», — подумала Глория. Она представила себе Давида, перебирающего редкие книги, или собирающего медали, или волочащегося за женщинами, и ею овладело злое веселье. «Боже, до чего глуп этот человек! А на что мы станем жить? Есть? Одеваться? Он, видно, думает, что деньги растут, как трава!»
Она резко поднялась, наклонила голову:
— Благодарю вас, господин профессор, я подумаю…
— Я буду следить за состоянием моего пациента, — улыбнулся Гедалия. — Полагаю, будет лучше, если через какое-то время я сам ему все объясню. Тут требуются такт и особое умение… Мы, практикующие врачи, привыкли — увы! — лечить не только тело, но и душу.
Он поцеловал ей руку и исчез.
Глория осталась одна и принялась бесшумно мерить шагами пустую галерею. Она прекрасно знала… Всегда знала… Он не отложил для нее ни единого су… Зарабатывал на одном деле и тут же вкладывал средства в другое… И что теперь?
— Миллиарды на бумаге — и ничего в руках! — в бешенстве прошипела она сквозь зубы.
Он говорил: «О чем ты волнуешься? Я пока жив…» Глупец! Разве в шестьдесят восемь лет ему не следовало каждый день думать о смерти? Разве не первейшая обязанность мужа — обеспечить жене достойное содержание, оставить приличное наследство? У них нет никаких накоплений. А когда Давид отойдет от дел, и вовсе ничего не останется. Дела… Без них поток живых денег мгновенно иссякнет. «Останется миллион, — думала она, — от силы два, если хорошенько поскрести…» Глория в бессильной ярости передернула плечами. При их образе жизни миллиона хватит на полгода. Шесть месяцев… и этот человек в придачу, больной, умирающий, тяжкая обуза…
— Нужно, чтобы он прожил еще лет пятнадцать, не меньше! — с ненавистью в голосе выкрикнула она. — Пусть платит за все, что сделал мне в жизни… Нет, не позволю…
Она ненавидела мужа — этого грубого, уродливого старика, любившего только деньги, грязные деньги, которые он даже не умел сохранить! Ее он никогда не любил… Драгоценности дарил — что да, то да, но из тщеславия, чтобы пустить пыль в глаза окружающим, а когда Джойс подросла, цацки стали доставаться в основном ей… Джойс… Вот ее он любил… Еще бы… Она была красивой, молодой, блестящей. Проклятый гордец! В его сердце живут только гордость и тщеславие! Ей, законной жене, он устраивал дикие сцены за каждый новый бриллиант, за паршивое колечко. «Оставь меня в покое! У меня нет денег! Хочешь, чтобы я сдох?» А другие? Как устраиваются они? Все работают — все как один! Не выставляют себя ни самыми умными, ни самыми сильными, но после их смерти жены ни в чем не нуждаются!.. «Некоторым женщинам везет…» Только не ей… Правда в том, что Давиду никогда не было до нее дела… Он никогда ее не любил… Иначе и часа не прожил бы спокойно, зная, что у нее совсем нет средств… кроме тех жалких денег, которые она отложила сама, ценой немыслимых усилий и терпения… Но это мои деньги, мои, пусть не думает, что я потрачу их на него!..
— Благодарю, с меня хватит одного сутенера, — пробормотала она, подумав об Ойосе. — Ни за что, пусть устраивается, как хочет…
В конце концов, зачем, во имя чего она должна говорить ему правду? Глория прекрасно знала, что с его еврейским священным ужасом перед смертью Гольдер немедленно все бросит и будет думать только о своем драгоценном здоровье… Эгоист, трус… «Разве это моя вина, что он за столько лет не заработал достаточно денег, чтобы умереть со спокойной душой? Сегодня, когда дела пришли в полное запустение, сказать ему правду было бы безумием!.. Потом… Позже… Теперь я в курсе и сама за всем прослежу… То дело, которое он хочет запустить… Что он сказал: „Кое-что интересное…“ Как только все окажется на мази, будет даже полезно сказать Давиду правду, чтобы он не кинулся в новую авантюру… Вот именно, тогда — и ни днем раньше…»
Поборов последние сомнения, Глория подошла к стоявшему в углу маленькому столику.
Господин профессор!
Мучимая тревогой за состояние мужа, я после долгих раздумий решилась перевезти моего дорогого больного в Париж. Примите мою глубочайшую благодарность вместе с…
Она прервалась, бросила ручку, стремительно пересекла галерею и вошла в спальню Гольдера. Сиделки не было. Он как будто спал, только руки слегка подрагивали в такт тяжелому дыханию. Глория бросила на мужа рассеянный взгляд, огляделась и обнаружила то, что искала: забытую на стуле мужскую одежду. Она взяла пиджак, пошарила во внутреннем кармане, вынула бумажник, достала сложенную вчетверо тысячефранковую банкноту и спрятала ее в ладони.
Появилась сиделка.
— Он успокоился… — Она кивнула на больного.
Глория не без труда наклонилась и прикоснулась накрашенными губами к щеке мужа. Гольдер издал глухой стон, слабо пошевелил руками, как будто хотел отодвинуть касавшиеся его груди холодные жемчужины. Глория выпрямилась и вздохнула.
— Будет лучше, если я его оставлю. Он меня не узнаёт.
В тот же вечер Гедалия вернулся. Причину визита он объяснил следующим образом:
— Я не мог расстаться со своим пациентом, не сняв с себя ответственности за его здоровье, а возможно, и за жизнь. Я абсолютно уверен, мадам, что сейчас вашего мужа никуда перевозить нельзя. Мне показалось, что утром я недостаточно ясно высказался на сей счет.
— Напротив, — понизив голос, ответила Глория. — Вы серьезно меня встревожили, возможно, даже чересчур серьезно?..
Она замолчала, и несколько мгновений они смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Казалось, что Гедалия колеблется.