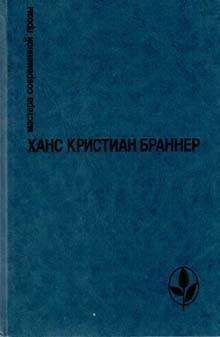Смешно, подумал Томас и остановил взгляд на серой велюровой дорожке, которая извивалась по широкой внутренней лестнице, точно змея, оцепеневшая в последней ритмической судороге, а посреди ее извилистой спины стояли Габриэль и Дафна. Они направлялись вниз и замерли на ходу, приподняв одну ногу над лестницей – широкая лакированная туфля Габриэля и узкая серебряная туфелька Дафны свободно парили в воздухе, в прозрачном и ясном воздухе. Как танцующая пара, подумал Томас, отец с дочерью, дочь с отцом посреди веселенького танца, посреди веселенькой смерти, смерти под музыку, как в американском паноптикуме, отец с дочерью, дочь с отцом, тщательно приведенные в надлежащий вид персоной, именуемой caretaker [6], напудренные и подкрашенные, облаченные в черный фрак и серебристо-серое вечернее платье и установленные стоймя в танцующей позе посреди роскошного мавзолея – точной, вплоть до мельчайших подробностей, копии отошедшего в вечность дома дочери. Этот caretaker – настоящий мастер своего дела, надо отдать ему должное: оба кажутся, пожалуй, даже более живыми, чем при жизни. Коренастая моряцкая фигурка Габриэля энергично устремлена вперед, вперед – вся, от сверкающей брильянтом белой крахмальной манишки до сверкающих атласом полос на брюках и сверкающей лаком приподнятой туфли. А глаза? Тоже сверкают из-под массивных роговых очков?
Нет, глаза очень темные и прямо-таки по-собачьи доверчивые – как всегда, а рот простодушно-чувственный, с пухлыми красными губами в гуще черной козлиной бородки и усов. Верный как золото, подумал Томас и припомнил одну из любимых сентенций Габриэля: «Всегда были и будут умные головы, которые надувают тех, кто поглупее». А теперь вот смерть ухитрилась надуть его самого – или это он надул смерть? Он-то ведь не знает, что умер, а о чем не знаешь, о том, как говорится, и душа не болит– Ну как его такого не полюбить, подумал Томас, как не полюбить за его наивную плутоватость и простодушно-чувственную влюбленность в собственную дочь. Ведь неведомый искусник, бальзамировавший его, ничего не утаил: Габриэль увековечен в миг блаженства– дочь обнимает его за пояс, а он обнимает дочь за узкие плечики, держа в ладони, в моряцкой ладони, ее младенчески нежную грудь, ее едва приметный розовый бутончик, ее драгоценное девственное сокровище. Да и Дафна тоже выглядит живее, чем при жизни, потому что она наконец-то стала законченным воплощением собственной девственности: уже не полудевственница, какой он ее знал, а совершенная девственница, сама недосягаемость, сама мечта о… о чем-то недосягаемом… о чем? – думал Томас, полулежа в кресле и неотрывно глядя снизу вверх на ее парящую в воздухе серебряную туфельку, на выпуклый подъем стопы и приподнятое колено, на серебряное платье с его легким ритмическим махом и плавным ритмическим полетом вверх, вверх – платье в форме вазы, возносящейся вокруг ее длинных тонких ног и узких бедер к широкому красному поясу на непостижимо узкой талии, которую с легкостью могут обхватить две мужские ладони, и дальше вверх, к младенчески нежной, рожденной из пены девственной груди, которая кажется еще более целомудренной и девственной в обхватившей ее толстой, короткопалой руке Габриэля. А сверху вздымаются из серебряной вазы обнаженные плечи и цветочный стебелек выгнутой назад шеи с нетронутым цветком головы. Небесно-голубые глаза, искоса, снизу вверх устремленные на Габриэля, улыбкой отвечают на его доверчивый, собачий взгляд из-под роговых очков, она прислонилась затылком к его плечу и, подняв свободную руку, ласково касается его жесткой черной козлиной бородки. Нимфа и сатир, подумал Томас, красотка и чудовище. Вечно торжествующая победу над мужчинами дева без грудей и без бедер, резная фигура, украшающая корабль их мечты. Или восковая фигура из паноптикума, подумал он и вспомнил ее обнаженную – раздетый восковой манекен за стеклом витрины, долговязый, худой, холодный. И однако же, и все же я здесь сижу и не могу вырваться из… ритма – это ритм?– подумал он и поднял взгляд на его застывшую внешнюю форму, – или это звук ее голоса? Потому что с ее полуоткрытых губ только что слетело слово, нестерпимо банальное и скучное слово, но звук был как у серебряного колокольчика. Ему чудилось, что он слышит – нет, вернее, видит – он видел перед собою этот звук, и эту музыку, и этот скользящий ритм – как звонкий узор, повисший в воздухе, возникший из пустоты, растворенный в пустоте. Смешно, снова подумал он и хотел было засмеяться, но вспомнил, что засмеяться сейчас невозможно, даже улыбнуться невозможно, потому что улыбка уже застыла у него на лице гримасой и отражается где-то в ясном до безумия воздухе. Менуэт? – подумал он. Менуэт это, или веселенький гавот на месте, или, может, это…
Ад? – подумал Томас и тотчас пожалел: хотя он не шелохнулся, даже взгляд не перевел, весь восковой музей вдруг медленно закружился, и он увидел через светящуюся арку вереницу фигур, замерших посреди залихватского свинга. Какой-то мужчина парил, оторвавшись от пола, длинные ноги перевиты между собой, руки протянуты вслед убегающей женщине, которая замерла, отклонившись всем корпусом назад и закинув обе руки за голову, а вокруг них в воздухе – замерший вихрь толстых черных ног и тонких светлых ножек, белых сорочек и переливающихся всеми цветами радуги шелков, завитые дуги и закрученные спирали, не способные распрямиться, высоко задранная женская ступня и слетевшая с нее туфелька, навечно оставшаяся танцевать на носочке, мужское тело, падающее, но так и не упавшее, хохочущее лицо с разинутым ртом, и лицо, искаженное нестерпимой мукой, и белое как мел потухшее лицо с глазами, скрытыми пляшущим облаком волос, – круговое движение продолжалось с нарастающей скоростью, и в поле зрения поочередно вдвигались и вновь исчезали разные предметы: накренившаяся стена, скособоченный потолок, большой круглый стол со множеством поваленных бутылок и рюмок, и вот уже движение перестало быть движением, а предметы – предметами, осталось лишь повисшее в воздухе нерасчленимое колесо. Легкое головокружение, подумал Томас, оставаясь в центре колеса, легкое головокружение, и больше ничего… Потом он тихо, как прежде, сидел и широко открытыми глазами смотрел в камин, где березовые поленья горели без звука, без движения и мелкие язычки пламени слились в один застывший конус, оцепеневший огненный язык, который взметнулся высоко, до самого дымохода, и заканчивался наверху изящным завитком.
Не без кокетства, подумал Томас и засмеялся внутри беззвучным смехом: эта картина явилась как бы сценой апофеоза, завершающей комический балет. «Абракадабра», – сказал он, но и слово тоже осталось у него внутри. Он хотел было похлопать в ладоши, да забыл, погрузившись в созерцание: тихо сидел, следя, как последние искры и последний легкий дымок исчезают в зияющей черной пасти. Тем же путем, через трубу, улетучился, должно быть, и неведомый клоун – или пастор – или колдун, – предварительно вызвав видение бессмыслия с помощью весьма нехитрого приема: он застопорил всякое движение постановил время. Только-то – и этого оказалось достаточно, чтобы от предметов остались одни лишь мертвые формы, безобидный залихватский свинг приобрел вид пляски проклятых грешников, а уютный огонек камина превратился в само адское пламя. «Но ты не запугаешь меня своим адом, – сказал Томас. – Если ад существует, я хочу быть в аду. Если существуют проклятые грешники, я хочу быть с ними. – Его раздосадовало, что он не может выговорить свои слова вслух: в застопоренных движениях и омертвелом времени он по-прежнему чувствовал молчаливый вызов виновника наваждения. – Я знаю, знаю, – продолжал он,– это всего только образ реальности, находящейся за пределами человеческого разумения, версия, предназначенная для простачков, умеющих видеть одними лишь глазами, понимающих одни лишь мысли и слова. И однако же, что это такое, как не образ мук и отчаяния заблудших душ, и что такое отчаяние, пусть даже самое безысходное, как не надежда? Покажи мне ад, в котором не жила бы надежда… Да, да, я знаю, – заторопился он с ответом, потому что воздух сделался нестерпимо ясен и мертвые отражения достигли совершенства в своем бессмыслии, – я знаю, что ты хочешь сказать: «Твой ад – это ты сам, ты, сделавший безнадежность своей надеждой. Ты, знающий, что ада нет, и, однако же, создающий его по своему образу и подобию. Ты, которому нужно всего лишь встать и уйти, и, однако же, не способный встать и уйти. Ты, знающий слово, которое может положить конец этому танцу среди мечей, и, однако же, не…»«Не способный его произнести? – подумал Томас. Или я попросту забыл его? Он сидел прямой и неподвижный, уставив взгляд в стакан с золотистой жидкостью, где все белые пузырьки воздуха замерли, остановленные в своем полете наверх. Как слова, подумал он, застывшие слова, которые обрели зримую форму и превратились все в одно и то же: онемевшие литании из одного и того же вопроса и ответа, ряды и цепочки из одного и того же священного непристойного слова, бессмысленного слова из бессмысленного ритуала. Нет, я не помню его. Но я знаю правду о нем, подумал он, чувствуя, как мускулы вокруг рта растягиваются в улыбке – в настоящей улыбке: ну да, просто-напросто провал в сознании, который объясняется незначительным сдвигом в психосоматическом равновесии, который в свою очередь объясняется временным поражением нервов, управляющих системой зрительного восприятия, иначе говоря, сказывается избыток -то есть нет, недостаток алкоголя. Небольшая терапевтическая доза этого неудобоваримого пойла – и наваждение развеется, как дым…