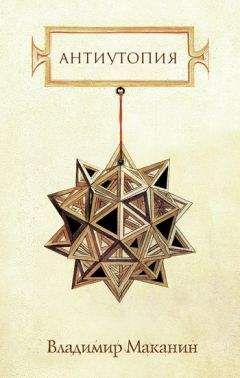Они уже были – без. И как легко стали они внеобщественны (в старом смысле слова), с неожиданным удовольствием ощутив готовность своего «я» к отношению с небом. Добро и зло – это ведь как лабиринт, но скорее всего в лабиринте ты (человек) не запутаешься, а попросту устанешь идти и махнешь рукой: хватит!.. махнешь обеими руками (тут Сашук, один из самых умных, улыбнулся, подверстывая вдруг подвернувшийся образ), взмахнешь и... как птица взлетишь и сделаешь круг и еще круг, видя уже сверху все многообразие комнат и переходов. Ощущение полета столь ново и содержательно само по себе, что ты (и тут тоже как птица) уже не хочешь косвенной последовательности запутанных комнат. Устал? Стоп, стоп! Дело не в усталости. Высокий звук (отзвук) христианского отчаяния и требы, но не тупик. Но и когда улетаешь, все же не унесешь (и не удержишь в памяти) этот великий план человеческого многовекового опыта...
Слава богу, что у нас есть крылья и мы можем взлететь, мы как птицы, говорил Саша, Сашук, один из них.
Как бы меняя и во внешнем тупик на взлет, они вскочили с мест (разговор побоку), тут же врубив музыку, как всегда громкую. Отплясывали, курили, то делали полумрак, то включали свет, отыскивая нужную магнитофонную кассету, я же продолжал сидеть в кресле, прикрыв глаза. Музыка не гремела, стала вкрадчива, нежна. Танцующие раз-другой задели мои ноги. В старом их кресле торчали две пружины, так что приходилось к ним приспосабливаться, и я это уже умел, имел опыт. Но, когда задевали по ногам и я сдвигался, пружины, перемещаясь, тотчас выстреливали и жестко о себе напоминали, после чего вновь приходилось елозить задом и смещаться (и пока я приспосабливался к пружинам, пружины приспосабливались ко мне).
Мы можем взлететь над лабиринтом добра и зла, мы как птицы, но мы не можем его осмыслить и за краткое наше время постичь, говорил умный Сашук. И потому – надо верить. Сейчас он танцевал, весь изгибаясь, а молодая женщина, повторяя своим телом его изгибы, льнула к нему и гнулась еще сильнее, самозабвеннее, чем он. Чувствовался поздний час; клонило в сон. Я перебирал в памяти их слова, их мысли и тихо завидовал.
Завидовал; из себя же ничего, кроме осторожной иронии, извлечь не мог.
Добро и зло – как две выскочившие и мешающие пружины старого кресла. Я повторял столь кружным путем пришедшие слова. Благоденствие нечестивцев и испытание праведных – но почему? почему?.. То есть испытывают именно праведных, не доверяя им, и есть ли в этом лишь известная формула очищения человека страданием?..
Определений добра и зла, как и способов размежевания, нащупываний границы меж ними, было, надо думать, бесчисленное множество: как, скажем, лабиринт у этого умного юноши. Или хотя бы как пружины в старом кресле, которые мешают сидеть. Но что, если в ту же сонливую и упрощенную минуту в нас и впрямь происходит некое вечное, но нам неслышное и недвижное сражение? (Как не слышно и не видно нам, к примеру, движение лейкоцитов нашей крови.)
Борьба идет, а мы не ощущаем ее и не чувствуем, какое великолепие! – подумал я в ночном восторге.
Шахматная доска с фигурами давно расставлена, партия идет который век, а мы ее не видим. И что, если предводителя добрых сил во мне (и во всяком другом человеке тоже), играющем белыми, назвать... но ведь и неназванный, он воюет, ходит своими белыми пешками и белыми фигурами, разрушает хитроумные комбинации хвостатого противника, завершая свои фланговые атаки и контратаки, пока я тут сплю. Да, я сплю. А он не спит. Он за меня, и ничего нет лучше этой мысли.
А я сплю. Что, если я хочу спать, но не свалившись в кровать спать и чтоб до самого утра и до галочьего за окном крика, а так, как сейчас, – сидя и вытянув ноги, и чтобы в старом кресле в углу и другим не в тягость, призакрыв глаза, когда рядом гудит тяжелый металл вокально-инструментального ансамбля и под этот металл (плюс пронзительный и щемящий женский голос – Маша?) танцует, гнется, льнет, прыгает, извивается, скачет и никак не может насытиться жизнью чья-то молодость?
Случалось, разумеется, видеть по телевидению, как поутру бежит здоровья ради по специальному тренажеру человек в своей красиво обставленной квартире. Бежит он быстро. Делает бег, избавляясь от гиподинамии. Какой-нибудь финн или норвег. Бежит и бежит на одном месте, а тренажер, легко движущееся полотно тренажера так и проскальзывает под его крепкими ногами, – представим себе, что бежит он вечно, бежит всегда, бежит каждый час и каждую минуту этот хорошо видный на экране круглолицый финн или узколицый норвег, и полотно тренажера скользит, летит под ним тысячелетие за тысячелетием. Это и есть трудолюбивый ангел или даже Бог, сражающийся с миром зла и в нас и за нас, – в то время как мы можем этого и не знать. Частицами тренажерского полотна мы знай мелькаем и мелькаем под его ногами, поколение за поколением, как шаг за шагом.
Я сидел в старом их кресле и, видно, уже сильно дремал, клевал носом, – время шло к ночи. Они поставили мне на колени пустую консервную банку под пепел, так что в двух-трех шагах от дремлющего танцевали молодые женщины, хорошенькие, милые, лет двадцати, стряхивали столбики пепла своих сигарет в пустую банку, улыбаясь и получая удовольствие от этой и впрямь комической сцены. Я себе дремал, банка себе стояла на моих коленях. Им было проще и удобнее не бежать с сигаретой к пепельнице на столе или подоконнике. Можно было продолжать танцевать и курить, положив руки на плечи парней в полумраке, и нет-нет принагнуться и стряхнуть пепел в банку; никакой злой шутки, просто молодость и милое дурачество.
Лабиринт, через путаницу комнат и переходов которого все равно никому из них не выбраться (но успеть все же почувствовать, что есть еще пространство третьего измерения, есть объем и воздух, и есть птица, которая взлетела над – и которой далось-таки если не запомнить, то все же глянуть на всю эту путаницу на миг сверху). А тот их мальчик, молодой человек, наглотавшийся таблеток и оставивший ясную записку на столе возле кровати, был уже далеко. Его сожгли. Они пошли к нему в колумбарий, в тот нескончаемый лабиринт человеческого пепла, который в свой черед запутан (обогащен) дополнительным лабиринтом небольших плит на стенах, с ладонь величиной, на которых так мелки фотографии с датами рождения и смерти; лабиринт лиц, которых уже с нами нет и из которых тоже уже не выбраться, не осилить и не упомнить, а только взлететь над.
Олежка, единственный из них экстремист, молчаливый и полный ярости, которую он хорошо умел держать под спудом. Но которая вдруг прорывалась, и тогда он хотел напустить, науськать на умничающих интеллигентов изнуренную толпу. Он весь темнел и шел пятнами, когда касались темы. Он говорил: «Эти высоколобые...» – или: «Эти, дурачащие народ...» – и хотел, разумеется, чтобы умников прибрали к рукам и чтобы тем самым люди, человечество было выровнено. И чтобы никакого дальнейшего расслоения. Все мы должны быть более или менее одинаковы. И быть счастливы или несчастливы – но быть одинаковы и вместе.
Он был некрасив, в оспинках, припухшие щеки, но молодые женщины его любили. Вот что у Олежки было красиво – глаза. И я думал – ну зачем с такими мыслями и с такой притаенной готовностью к укусу такие глаза?.. Или так думал: озленный мальчик, но зато глаза у него. Хотя бы глаза.
На манер ли нашей Гражданской войны, или как в тридцать седьмом, или хотя бы путем эмиграции интеллигенция должна подравниваться под народ, да, да, надо ее подравнивать, периодически тем самым от нее избавляться, – он любил сдержанно-энергичное слово. Хотя бы путем эмиграции.
– Но, Олежка. Все это уже сто раз было, – сказал я ему. И так получилось в ту минуту, что магнитофон попал на свою паузу или на перемотку, так что сказались мои слова в полной тишине и весомо. Все это уже было.
– Было, – кивнул он. И с этой минуты, кажется, меня ненавидел. Посмеивался, когда я приходил. И все иронизировал. Говорил, что меня надо непременно и принудительно заставить копать длинную канаву в восточном направлении, пока я не докопаю до китайской стены. А когда я докопаю, китайцы научат (это уже, конечно, их проблема, он не смеет им подсказывать) – научат копать канаву дальше. Так что с копанием у меня даже на день не получится перерыва. Он язвил. Он покусывал. Он меня поддевал. Он был мальчик. Обыкновенный мальчик. Я грустнел, застигнутый повторением. Я ведь мог предвидеть этого мальчика. Я, кажется, думал, что мыслей выровнять человечество (мыслей хотя бы и в чистом виде) уже нет. Я думал, были. Всадники гражданской войны ускакали в далекую белую пыль, передвигаясь все дальше и дальше. Скрылись – думалось, их уже нет, а они, хотя бы и за линией горизонта, ни на минуту не прекратили своей скачки и, двигаясь на рысях, торопясь, обогнули, как Магеллан, землю и теперь появились с другой стороны, со стороны юных, появились в пыльных шлемах и, не слезая с коней, сказали: