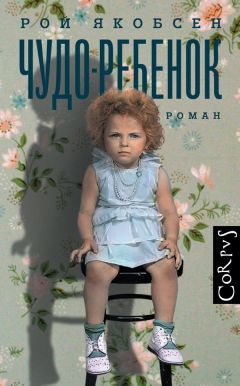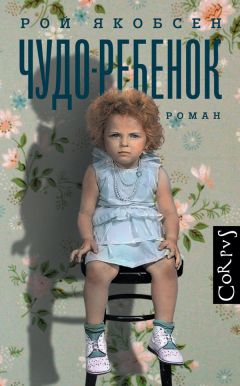Кристиан, надо сказать, сумел сложить два и два, сделать вывод, что у нас тут чрезвычайная ситуация, и без паники дал задний ход. А вот я — нет.
— А на кого тогда я похож? — крикнул я. — Про меня ты никогда не говорила, что я на кого-нибудь похож!
— Что ты себе напридумывал.
Во мне взыграл другой, и не успел я сам понять, что происходит, как схватил ее за руку и впился зубами в те два пальца, которые присвоила себе Линда, сжал их что было сил, теперь мамке в самом деле было из-за чего завопить. Она залепила мне пощечину, жестко и основательно, чего она никогда раньше не делала, и так мы и застыли, вперившись друг в друга глазами, еще более преобразившиеся. Подбородок ломило нестерпимым холодом, и при этом губы на этом моем мерзком лице сложились в натянутую улыбку.
Меня вырвало на пол прямо тут же, я спокойно вышел в прихожую, накинул куртку и отправился на улицу к другим, тем, у кого, казалось, не было дома; во всяком случае, дома они не бывали — к большим и пропащим, Раймонду Ваккарнагелю, Уве Йёну и им подобным… Этим вечером мы побили стекла в подъездах второго, четвертого, шестого, седьмого и одиннадцатого корпусов, и еще маленькое окошечко Лиеновского склада, где хранились крупа саго и табак для самокруток. Никогда еще в микрорайоне Тонсен никто не бил столько стекол за один-единственный субботний вечер. И, может быть, я единственный знал, почему, или, по крайней мере, у меня единственного была причина — странное безмолвное существо, крепко спавшее у меня дома в нашей новой двухэтажной кровати; остальные занимались этим, наверное, по старой привычке или по складу характера, но я был сложен определенно не так.
Поднялся, конечно, страшный шухер, завели расследование с участием управдома и председателя жилищного кооператива. Найти, кто это сделал, проблемы не составляло; говоря по-английски, «the usual suspects», или обычными подозреваемыми, были Уве Иён, Раймонд Ваккарнагель и иже с ними; загадку представлял собой я — никогда ранее не совершавший ничего дурного, а проходивший под кличкой «маменькин сынок», и не только потому, что у меня не было отца, но потому, что я крепко стоял обеими ногами на земле и был мальчиком уравновешенным, жизнерадостным и сообразительным, как писала фрекен Хенриксен на моих работах по чистописанию; я умел читать и писать, я ничего не боялся, даже Раймонда Ваккарнагеля, я почти каждый вечер мыл посуду; ростом я чуточку не вышел, зато не писал в штаны и мог вполне в охотку покрасить целиком стену в гостиной, если это от меня требовалось. Просто ли я попал в дурную компанию? Или и во мне тоже дремали и ждали своего часа дурные задатки?
Эти события позволили Кристиану вновь вступить в игру.
— Наплевать и забыть, — сказал он председателю кооператива Йоргенсену, когда тот важно занял собой всю прихожую и принялся читать матери нотацию, как стоило бы проучить хулигана. — С парнишкой все в порядке.
— Откуда бы это тебе знать? — огрызнулась мамка, которая в интересах дела сочла необходимым подпеть Йоргенсену; мамка, она умела, если нужно, подольститься, этому она в детстве научилась, будучи младшей из четверых детей; жили они в рабочем районе Турсхов, отец семейства, разумеется, пил, и много, а мать, после смерти отца, расслабилась и тоже запила.
— Да это и ежу понятно, — заявил Кристиан непререкаемым тоном профсоюзного активиста, — если у него мозги есть.
Для верности он еще и руку положил мне на голову, улыбнулся, бог весть чему, и, напевая, ушел к себе в комнату.
Мамка так и осталась стоять, сложив на груди руки и мусоля бинт, которым она перевязала два покусанных пальца, Линдиных пальца, теперь уж в некотором сомнении относительно выгод неловкого альянса с Йоргенсеном, человеком, определявшим, когда следует продувать отопительные батареи и когда наступает пора складывать и убирать на лето в бомбоубежище финские санки.
— Ну и правда, не стоит, наверное, раздувать эту историю, — попыталась она вывернуть на другое. А мне и этого хватило, чтобы снова разреветься и брякнуть, что я сам заплачу за стекла в одиннадцатом корпусе, из своей копилки возьму деньги; я бил только эти.
Мамка посмотрела на меня растроганно, и Йоргенсен понял, что переговоры завершены, но все же не двинулся с места, как бы показывая, что он сам, а не мать будет решать, когда ему удалиться, не говоря уж о том, когда объявлять дело закрытым; продемонстрировав это, он ушел. Мамка смогла наконец приступить к длинной проповеди на тот счет, чтобы я держался подальше от этой уличной банды, и о чем я только думал, и так далее. Но это всё было нормально, в противоположность тому абсолютно непостижимому, что постигло нас в день приезда Линды, в прошлую субботу.
И вот сейчас она сидела за кухонным столом и ждала.
Ужина ждала.
В соответствии с обнаруженной в чемодане инструкцией мы завели такой порядок — мамка намазывала бутерброды на доске для хлеба и распределяла их по двум десертным тарелкам, которые ставила перед нами рядом с нашими стаканами с молоком. Бутербродов на тарелках было поровну, по два с половиной, с тем, что сами выберем; мама же съедала только один бутерброд, с сиропом, как память о детстве, хотя, может статься, она все никак не могла вдоволь наесться таких бутербродов, потому что дома-то у них, как говорится, кашу маслом не портили; намазывая на доске бутерброды, мамка в то же время лазила в шкаф то за тем, то за другим или ставила что-нибудь в раковину, а иногда шутила с нами. И никаких добавок бутербродов Линде, сколько бы она ни смотрела на мамку безмолвным неотрывным взглядом, который в обычных обстоятельствах сломил бы и самую железобетонную волю, не перепадало, нет, хоть Линда и не накидывалась теперь на еду с той же жадностью, как в первый день, и к тому же поняла, что нехорошо вывалить себе на бутерброд все сразу, например, полную банку сгущенки. Я и по себе чувствовал, что вот как раз сегодня вечером я был бы не прочь получить еще один бутербродик, и у нас никогда не было проблем с тем, съем ли я их два или шесть, но я об этом даже не заикнулся, и мамка признательно кивнула мне, поскольку мы с ней полностью спелись в деле исполнения содержавшихся в письме инструкций. Линда тоже прекрасно поняла, что в этом смысле ей ничего не светит.
— Читать, — сказала она.
И мы приступили к чтению. Но сначала убрали со стола и помыли посуду, если это можно так назвать, потому что Линде хватало развлечений с тем, чтобы устоять на табуретке — которую я был вынужден ей уступить — и совать руки в мыльную воду; я же мыл даже тщательнее, чем обычно, и еще заметил, что от Линды уже не пахнет так странно; теперь от нее ничем не пахло, как и от меня.
К тому же волосы у нее были острижены покороче, причесаны и заколоты голубой заколкой, убравшей челку с ее больших глаз, теперь ничем не закрытых. Мамка спросила, знает ли она какие-нибудь песенки. Линда после недолгих раздумий пробубнила какое-то название, я его раньше не слышал, но мамка улыбнулась, напела мелодию, и оказалось, что она знает несколько строф именно этой не известной мне песни; и вот она вытирала, а потом убирала посуду и пела, а Линда хитро улыбалась, глядя на мыльную воду, и щеки у нее раскраснелись, что мы отметили как хороший знак, потому что, правду сказать, пока она у нас жила, она почти и не улыбалась. На ночь нам теперь тоже читали другое: пришлось снова слушать «Близняшек Бобси», мне давно надоевших. Это где у детишек кроме родителей такая куча дядь и тёть, что совершенно невозможно их всех запомнить; и «Метте-Марит в балетной школе», куда ж без нее, мамка читала ее в детстве и потом пыталась и мне навязать, но я эту Метте-Марит терпеть не мог. Кроме того, с Линдой много прочитать не удавалось; она хотела снова и снова слушать первые полторы страницы, словно теряя нить, когда история начинала развиваться, или, может, у нее тяга была такая необычная к повторам.
Но особенное такое настроение все равно создается, когда лежишь, закинув руки за голову, смотришь в потолок и понимаешь, что не стоит напирать на свои собственные предпочтения, и главное, знаешь при этом, что твой такт будет оценен, а уж мамка умела мне это показать, у нее даже новый взгляд для этого появился; как уже было сказано, мы с ней составили команду, задача которой — заботиться о человеке, в котором мы пока как следует не разобрались и сумели разобраться только гораздо позже, через долгих три месяца.
Как уже говорилось, родни у мамки было немало: три старших брата и мать, теперь уже совсем седая. Дни свои она проводила в кресле-качалке за раскладыванием пасьянсов и парой-другой стаканчиков шерри, но всегда светлела лицом, завидев меня, спрашивала, как у меня дела в школе; было важно хорошо успевать в школе. Но ответов моих она уже не слушала.
— Вытяни карту, — говорила она.