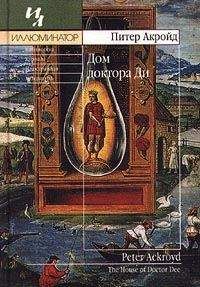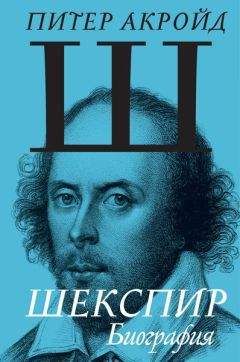Нет, это неверно. Уже в миг своего возникновения они становятся частью непрерывно текущей истории, и, как я уже говорил, бывают случаи, когда я иду по сегодняшнему Лондону и узнаю в нем то, что он есть: город другого исторического периода со всеми его таинственными условностями и ограничениями. Я часто слышал от отца одну фразу: «Видеть в вечности временное, а во времени вечное». Как-то раз я наткнулся на снимок Уайтхолла, сделанный в 1839 году, и он помог мне понять ее смысл; на снимке был изображен мальчонка в цилиндре наподобие печной трубы, растянувшийся под уличным фонарем, а через дорогу от него стояли в ряд двухколесные кебы. Все здесь дышало вечностью, и даже грязь на мостовой словно излучала сияние. Но это же чувство я испытываю и сейчас, когда, выйдя с кладбища, вижу вон ту женщину, открывшую дверь на улицу, и одновременно слышу выхлоп автомобиля, который проезжает где-то неподалеку. Такие вещи исчезают и вместе с тем как бы существуют вечно.
Я миновал Кларкенуэлл-грин и углубился в Джеру-салем-пассидж. Неоновые часы, висящие на одном из зданий, показывали уже почти полночь; с минуту я смотрел, как они раскачиваются на ветру и цифры горят на их циферблате. В четырнадцатом веке очень высоко ценился необычный камень под названием «садастра». Снаружи он был черный или темно-коричневый, но, будучи расколот, в течение нескольких мгновений сиял как солнце. Мне подумалось, что это сияние могло быть сродни сиянию неоновых цифр, которые сейчас привлекли мой взор. Поблизости находились два-три человека; их бледные лица отсвечивали в оранжевых лучах фонарей, и казалось, что они бесшумно плывут над тротуарами. Я покинул Джеру-салем-пассидж, пересек Кларкенуэлл-роуд и вступил под арку монастыря Св. Иоанна Иерусалимского. Здесь лежал кусок фундамента, отмечающий местоположение аббатства тамплиеров, возведенного в двенадцатом веке и разрушенного в годы Реформации. Несомненно, камни, из которых оно было сложено, пошли на постройку кое-каких больших домов по соседству (парочка этих глыб вполне могла покоиться и в стенах моего собственного дома), однако они были печальными памятниками великой катастрофы. Так полагал Дэниэл Мур, и теперь я согласен с ним в том, что разрушение богатейших монастырских библиотек со всеми их рукописями и другими сокровищами привело к возникновению огромного пробела в истории нашего острова. Мало того что была стерта с лица земли целая католическая культура – не менее чреватой последствиями оказалась и гибель древних монашеских летописей, относящихся к раннему периоду британской истории. Одним махом было покончено со всей разветвленной структурой, на которой держалось прошлое.
Но что это за шум у Холборнского виадука? Словно бы глубоко из-под земли донесся чей-то яростный вопль; он был глух, метался и бился в некоем тесном пространстве. Потом я свернул за угол, на Гилтспер-стрит, и заметил старуху, скрючившуюся в телефонной будке; она прижимала к лицу трубку и что-то кричала в микрофон. Я продолжал шагать в ее сторону и вскоре увидел, что на приклеенной к стеклу бумажке написано: «НЕИСПРАВЕН». Так с кем же она говорит? Помню, однажды мне надо было позвонить по телефону со станции «Ченсери-лейн»; сняв трубку, я услышал гул множества голосов, точно вой ветра за окном. Может быть, на другом конце линии всегда кто-то есть. Нет, все это чепуха. Ночные прогулки иногда порождают в душе необъяснимые страхи. Крышу жилого дома на углу Сноу-хилл венчала маленькая параболическая антенна; пока я глядел на нее, принимающую с неба сигналы, мне снова померещилось, будто над Клоук-лейн взмыл вверх силуэт человека.
«А! Это ты? Явился наконец?» Старуха вышла из телефонной будки и теперь кричала мне вслед. Я быстро зашагал прочь. «Знаешь, откуда на тротуарах столько дерьма? Это не собаки гадят. Это старики-пенсионеры». Она захохотала, а я все торопился дальше, к Феттер-лейн и Хай-Холборн. На первом этаже доходного дома Дайера есть магазинчик видеотехники; спеша к нему, я видел на дюжине экранов одно и то же изображение; там было столько света и энергии, что сама витрина, казалось, вот-вот полыхнет огнем и разлетится вдребезги. Когда я подошел еще ближе, оглядываясь, дабы удостовериться, что старуха меня не преследует, я стал различать на экранах множество несущихся куда-то звезд и планет. Видимо, это был один из тех эффектных научно-фантастических фильмов, которые снимались в семидесятых и начале восьмидесятых годов; рядом с витриной, целиком поглощенный зрелищем космического полета, стоял какой-то юноша. Он уперся руками в толстое стекло; создавалось впечатление, будто он распят на этом сияющем фоне. Я хотел сказать ему, что все здесь обман, кинематографические трюки, но для него это, возможно, было истинной картиной вселенной. Я ничего не сказал и прошел мимо.
Мне памятен тот день, когда я впервые начал понимать Лондон. Подросток лет пятнадцати-шестнадцати, я ехал на автобусе, идущем из Шепердс-Буша в Далидж; небо над Ноттинг-хилл-гейт и Куинзуэем было затянуто облаками, но вдруг в них открылась брешь и вырвавшийся оттуда солнечный луч упал на металлический поручень передо мной. Это ослепительное сверкание точно заворожило меня; вглядываясь в глубины света и сияющего металла, я ощутил такой необыкновенный восторг, что не смог усидеть на месте и выскочил из автобуса, когда он остановился у Мраморной арки. Я чувствовал, что меня посвятили в какую-то тайну – что я краем глаза увидел ту внутреннюю жизнь и реальность, которая скрывается во всех вещах. Я подумал о ней как о мире огня; поворачивая на Тайберн-Уэй, я верил, что смогу найти его следы повсюду. Но этот огонь был и во мне самом, и я обнаружил, что бегу по улицам, словно они – моя собственность. Каким-то неведомым образом я присутствовал при их рождении; вернее, внутри меня самого было нечто, всегда существовавшее в здешней почве, здешних камнях и здешнем воздухе. Теперь этот изначальный огонь покинул меня; должно быть, потому-то я и кажусь самому себе чужаком. Постепенно, с течением лет, город внутри меня померк.
Однако есть места, куда я возвращаюсь до сих пор. Временами меня тянет спуститься по Кингсленд-роуд и постоять у старой Хокстонской лечебницы для умалишенных рядом с Уорф-лейн; именно сюда, по ее собственной просьбе, Чарльз Лэм приводил свою сестру, и однажды я попытался пройти по их следам через поля, скрытые теперь под каменными мостовыми прилегающих улиц. Она всегда приносила с собой смирительную рубашку, и они плакали, добравшись до ворот лечебницы. Я останавливаюсь там, где стояли они, прямо перед входной аркой, и шепчу свое собственное имя. Бываю я и на Боро-Хай-стрит; я прохожу по ней от Саутуоркского моста до зданий бывшей Королевской тюрьмы и Маршалси [18] и, хотя эта прогулка всегда дается мне очень тяжело, неизменно повторяю ее снова и снова. Были случаи, когда я бродил по этому району до изнеможения, теряя ориентацию и способность думать. Я хотел, чтобы Старый город похоронил меня в себе, чтобы он стиснул меня и задушил. Неужели среди темных теней его прошлого не нашлось бы ни одной, способной поглотить меня? Однако не все мои путешествия сопровождались такими гнетущими чувствами. Было одно чудесное место, где меня всегда ожидал покой: я опять и опять возвращался на Фаунтин-корт в Темпле – там, рядом с маленьким круглым прудиком, под вязом, стояла деревянная скамейка. Ощущенье покоя здесь, в центре города, было настолько глубоким, что казалось мне порожденным каким-то важным событием минувших времен. А может быть, сюда год за годом приходили люди вроде меня и само место переняло спокойствие своих посетителей. Я часто думаю о смерти как о похожем состоянии – словно я чего-то жду рядом с вязом и прудом. Моего отца близкая смерть не пугала, а, наоборот, чуть ли не радовала: помню, как он насвистывал в ванной, уже зная, что жить ему осталось всего несколько месяцев. Он никогда не сокрушался, не жалел себя и не выказывал признаков беспокойства. Складывалось впечатление, будто ему известно кое-что о следующем этапе пути; как я упоминал, он был католиком, однако столь глубокую уверенность ему, похоже, придавали некие более личные убеждения. И вновь, выйдя с Хай-Холборн на Ред-Лайон-сквер, я задумался об унаследованном мною старом доме. Почему ни одна из прогулок по городу не привела меня на Клоук-лейн или в ее окрестности? Почему я избегал Кларкенуэлла или позабыл о нем?
Я достиг обломка каменной колонны, поставленной на Ред-Лайон-филдс в память об июньской резне 1780 года; в дни Гордоновских бунтов солдаты убили здесь несколько детей, а три месяца спустя Джон Уилкс объявил о сборе средств на этот памятник. Камень уже так растрескался и выветрился, что смахивал на кусок обыкновенной скалы, подточенной временем; но, повинуясь внезапному порыву, я стал на колени и дотронулся до него. В конце концов, меня связывало с этим местом и еще кое-что. Всего в нескольких ярдах отсюда, на углу Ред-Лайон-пассидж, я впервые увидел работы Пиранези. Альбом с его гравюрами, купленный мной у лоточника, назывался «Фантазии на тему темниц», но, по-моему, там не было ровно ничего фантастического. Я сразу узнал этот мир; я понял, что это и есть мой город.