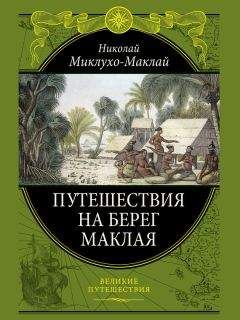Дружеское, тёплое рукопожатие. Сказать, что Анри Ришар не смущён великодушием мосье Тэтэкин, было бы несправедливо. Во всяком случае, этот русский — большой оригинал. Трудно предполагать тут какую-нибудь хитрость! Если даже он глуп, то все-таки недурной человек. Но послать деньги тому жулику — чистейшее идиотство; во всяком случае, он мог бы попросить моего согласия. Придётся, пожалуй, вернуть ему двести франков. Конечно, могло быть хуже! В общем — пресмешная история.
Бухгалтер полюбопытствовал:
— Э? Мирный разговор после грозы?
— Да, старик сбавил тон.
— Маленькое недоразумение?
— Не о чем говорить! В сущности, старик — неплохой человек, но что поделаешь — мания величия! Между прочим, извинился за вчерашнее и пригласил меня обедать.
В отсутствие Ришара бухгалтер поделился с дактило соображениями:
— Сказать по правде, Анри Ришар — настоящая дрянь, но умен и хитёр, пойдет далеко. Что до нашего шефа, то не будет преувеличением сказать, что он — разновидность святого дурака. Вот бы вам такого мужа, мадемуазель Ивэт!
Мадемуазель Ивэт передвинула каретку, нажала табулятор и спросила:
— А чем, собственно, провинился Анри?
— Думаю — лёгкое мошенничество, я шеф его уличил. Уличив, очевидно, простил, а простив, пригласил обедать. Вы понимаете?
— Я не понимаю этого.
— Нет ничего удивительного, Ивэт, что вы не понимаете по-китайски. Это называется ame slave[58], мадемуазель. Нечто вроде пуаро под шоколадным соусом с анчоусами.
— Мосье Тэтэкин — прекрасный человек!
— Я не отрицаю. Именно поэтому любой мерзавец может оставить его в дураках.
Пальцы машинистки забегали по клавишам. О том, что Анри Ришар не принадлежит к числу ангелов, она кое-что знала.
* * *
Можно подумать, что в кабинете шефа производится спешный ремонт — стучит молоток и во все стороны разлетаются брызги каменных осколков: Егор Егорович работает над грубым камнем, скалывая с себя недостатки и пороки мира непосвящённых. За сегодняшний день работа, казалось бы, настолько подвинулась вперёд, что камень должен был принять кубическую форму; и однако, со, всей энергией ударяя молотком по долоту, Егор Егорович с удивлением замечает, что выбоины и неровности увеличиваются и при дальнейшей работе в том же направлении камень может треснуть и рассыпаться.
Разыграл высокое благородство души! Добродетель, купленная по случаю за двести франков! Залп великодушия по преступной душе молодого человека!
Кстати — выстрел холостой, бутафорский: Анри Ришар не убит и не ранен, а стрелок попал в святые по дешёвому тарифу.
А главное — какое жалкое расчётливое лицемерие! Сначала отправился на поклон к мудрецу и порисовался перед ним. Затем выделил два стофранковых билета из скромных сбережений и послал их от имени Анри Ришара (Не от своего! Святые застенчивы!). Наконец, спросил у струсившего мальчишки сладким голосом, как поживает его мамаша, — и пригласил его в гости. Какая красота! И ещё подчеркнул: не подумайте, что это поступок брата; я, дескать, благороден самостоятельно, от самого рождения!
Сквозь географическую карту на стене просовывает голову сама акционерная компания Кашет, вращает глазами, щёлкает челюстями и требует у Егора Егоровича немедленного ответа: на каком основании он поощряет и тем плодит порок во вверенном ему учреждении? За чей счёт? Кто поручил ему заниматься нравственным перевоспитанием человечества вообще и Анри Ришара в частности вместо того, чтобы следить за процветанием экспедиционной конторы? И нельзя ли в деле чисто коммерческом, да ещё чужом, обойтись без эманации славянской души и без Теодор Достоевски?
Сказать по правде, Егор Егорович чувствует себя очень плохо. Какая-то ошибка совершена, а какая? Оценка собственных поступков должна производиться путём взвешивания их на весах совести. Егор Егорович прежде всего приводит чаши весов в равновесие, затем осторожно погружает на одну чашу Анри Ришара, клиента, почтовый перевод, пенсне, трубку и золотой зуб Жакмена, а на другую чашу становится сам, обеими руками держась за уходящие конусом вверх цепочки. Чаша с Егор Егоровичем взмывается в высоту, макушка его головы едва не пробивает потолка. Оглушённый ударом, он все-таки не может определить: а что же это значит? Может быть, он прав, а может быть, наоборот, без меры преступен.
До полудневного перерыва он проводит время в необычайных нравственных мучениях, продолжая все же подписывать бумаги, отдавать распоряжения и подытоживать в голове цифры. Когда контора наконец пустеет, он вынимает из портфеля завёрнутый в бумагу завтрак, который принёс из дому, и жует безо всякого аппетита, хотя Анна Пахомовна на этот раз проявила и хозяйственность, и щедрость, и тонкий вкус: квадратики хлеба переложены ломтиками холодной печёнки и итальянской колбасы — поочерёдно. Сверх того, в особой, провощеной бумаге треугольный кус шоколадного торта, не доеденного в день её рождения и в два следующих дня. Бутылка вина и стакан всегда хранятся в конторке Егора Егоровича, и он наливает с обычной умеренностью. Но и в стакане, и в сладком торте множество осколков плохо отёсанного камня, и на зубах неопытного каменщика неприятный хруст.
Первой после перерыва возвращается машинистка мадемуазель Ивэт; она заново пудрит нос и подправляет красивый рисунок некрасивого рта. За ней тяжело вкатывается толстый пожилой бухгалтер, чревоугодник пятисполовинойфранкового ресторанчика, комбатант, холостяк, скептик и ревматик. И только когда оба упаковщика и рассыльный мальчик занимают оставленные посты, — является с небольшим опозданием Анри Ришар, молодой и уверенный голос которого вызывает сегодня на лице Егора Егоровича болезненную настороженность. Затем начинается обычное хлопанье двери — приход и уход посетителей конторы.
Со вздохом, принимается неотёсанный камень за свои оставленные бумаги и погружается в деятельность, прерванную не принёсшим облегчения отдыхом. Какой сегодня длинный день!
Щёлкнула дверь, и медная дощечка с надписью «George Tetekhine»[59] иронически блеснула в спину носителю этого имени. В такую погоду только рассеянный человек может выйти из дому без зонтика.
Бывшего казанского чиновника мочит парижским осенним дождем, но он слишком погружен в свои мысли, чтобы обратить внимание на такой пустяка Предстоящий вечер полон значения и тайны. Раз уверовав — нужно цепко держаться за этот подарок судьбы, и тогда весь мир предстанет в ином освещении. И предстал уже! Совсем иными, чем прежде, глазами смотрит Егор Егорович на дома, на людей, на освещённые витрины магазинов. Суета, пускай неизбежная, даже милая, но — суета, маетность, бессодержательность! Люди с зонтиками и без зонтиков чертят ногами узоры по земле; Егор Егорович сознательно, но тайно плывет над их головами, жалея их, проникнутый большой к ним любовью, но не смешиваясь с толпой. С этой высоты он плавно опускается под красные шары метро и затем катится по рельсам мимо станций, порядок которых давно знает наизусть: Convention[60], Vaugirard, Volontaire — вплоть до Concorde[61], где пересадка.
С некоторого времени Егор Егорович стал исключительно чутким к вывескам и к звуку и значению слов. Он десять лет прожил на улице Convention, не задумываясь над тем, что означает её имя. Сейчас ему кажется знаменательным, что его путь — от Договора к Согласию. Случайность, полная смысла для ума, воспитанного работой над тайнописью символов. Даже коньячная реклама на потных стенах туннеля звучит для него намёком на этапы нравственной последовательности: «Дюбо» — «Дюбон» — «Дюбоне». От простого житейского Сговора, через Красоту и Добро — к высокому братскому Согласию. Эта догадка поражает Егора Егоровича, и он застенчиво озирается, — один ли он об этом думает, или та же мысль занимает умы всех, сжатых взаимно локтями и мокрыми спинами? Не может быть, чтобы ещё кто-нибудь не думал о том же!
Потом наступает момент — Егор Егорович перед дверью, на которой надпись:
«За этим пределом билеты не действительны».
Как бы иначе говоря:
«Ты можешь с тем же билетом ехать дальше, можешь бесконечно метаться, меняя направления, по подземным туннелям, — но раз ты решил перешагнуть порог и выйти из-под земли на улицу, в мир реальный, помни, что возврата нет». Роковая черта! «Оставьте всякую надежду сюда входящие!» И опять — никогда раньше он не замечал этой вывески и о странной границе двух миров не думал! Символы окружают нашу жизнь, оплетают её тонкой паутиной, в которой нужно уметь разобраться, — иначе запутаешься или порвешь её нити. И рвут, и путаются, не делая попытки проникнуть в значенье слов, недооценивая образов. И есть ещё дверь с надписью не менее загадочной; её порог Егор Егорович переступит сегодня вечером: «Пусть не входит сюда не знающий Геометрии». Эти слова начертал Платон над входом своей школы.