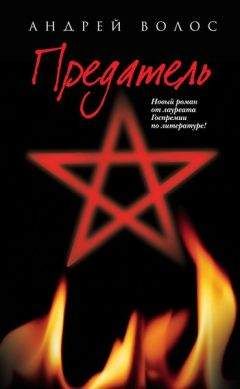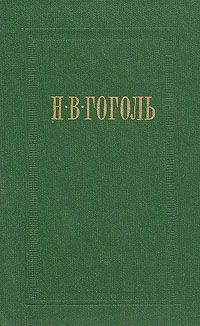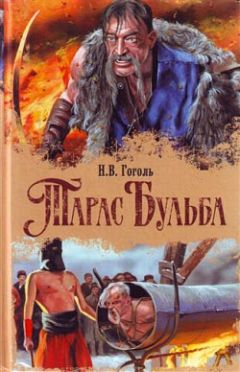Вклинилось сразу несколько голосов, погомонили, потом опять Бронников:
— Вот спасибо, разъяснил! А то мы не знаем, что марксистское понимание социализма к нам никаким боком не подходит! Самоуправление? — карается хуже чем самоуправство! Отмирание государства? — скорее мы сами сдохнем. А уж что касается отчуждения средств производства, то никогда прежде они не были так далеки от личности!..
Семен Семеныч снова щелкнул.
— Хватит? Или еще послушаете?
— Отчего же! — сипло сказал Бронников и откашлялся, прочищая севший голос. — Можно еще. Занимательно…
Он перевел взгляд и стал тупо смотреть, как пальцы Семен Семеныча неспешно завязывают только что ими же развязанные тесемки… Зачем, спрашивается, завязывает, если недавно развязал? Что в этой папке?.. И вдруг понял: да рукопись же, украденная у него рукопись!
— Вот вы не верите, а я на самом деле с вами по-хорошему собирался, — вздохнул Семен Семеныч, отодвигая папку. — С одной стороны, и впрямь: во время Олимпиады вам в Москве делать нечего: не такой уж вы, прямо скажем, спортсмен. Поэтому возник план предложить вам поехать на это время в Фирюзу… не бывали в Фирюзе?
— Не приходилось, — буркнул Бронников.
— Чудное место! Рай божий на земле! Красота! Сады кругом! Ручьи! Соловьи! Щебет! Журчание! Фрукты свежие! Руку протянул — персик! Другую протянул — абрикос! И в том раю — пансионат Союза писателей Туркмении. Посидели бы месячишко, пока здесь олимпийская пыль не уляжется. На всем готовом… а? Ведь как хорошо все могло бы устроиться!..
Ни секунды он в это не верил — и все же сердце (доверчивый, слабый кусок мяса) сжалось на мгновение: и правда, как хорошо все могло бы устроиться!
— А вы вон чего, — вздохнул Семен Семенович. — Демонстрируете навязчивые идеи. К докторам вас надо, Герман Алексеевич, к докторам.
* * *
Так он оказался в западне.
И главным чувством стало отчаяние.
Позвонить Кире позволили через пять дней, уже когда насовсем в больнице прописался…
Что же касается кошелки, то Семен Семеныч, вопреки всякой логике, интереса так и не проявил: и на предварительное освидетельствование к профессору Глянцу Бронников с ней таскался, и в тюрьму потом привез. Тюрьма оказалась вроде вокзала: огромный зал ожидания, наполненный гулом множества голосов, перегороженный рядом столов: по одну сторону — голые пассажиры возле своих вещей, по другую — люди в серых халатах.
Раскрыв папку и тупо полистав, контролер спросил:
— Что это?
— Это?.. кандидатская! — нашелся он.
— Не положено, — отрезал тюремщик.
Больше Бронников той слепой машинописной копии не видел.
Размышлял о ней абстрактно — куда все же делась?
Неужели зачитали?..
Сопоставив факты, с облегчением утвердился, что Юрец ни при чем: дело было не в «Технологии власти»: просто прослушивали, гады.
Пересиливал, пересиливал сон — и пересилил: проснулся, дернувшись и мыкнув.
— Ты чего?
Степанов сидел на соседней койке, обеспокоенно подавшись вперед.
— Что?.. Да ничего… приснилась дурь какая-то…
— А-а-а, приснилось, — понимающе протянул Степанов. — Дурь, говоришь?.. Те-те-те… видишь, вот и я говорю: сюда так просто-то не ло́жут.
— Ну да…
По неопытности, пожалуй, и возражать бы взялся насчет того, ло́жут сюда просто так или не ло́жут. Но четвертый месяц грозил вот-вот перевалить в пятый, и он давно уяснил, что спорить не нужно.
● Монастыревская больница, 3 августа 1980 г.
— Я тоже сначала не понимал, — толковал Степанов.
Бронников встретил его уже в настоящем его состоянии, и не знал, такими же тусклыми были глаза Степанова прежде или нет.
— Я ведь когда домой пришел и увидел, на самом деле с ума сошел… хорошо, что полечили, хорошо.
Это он имел в виду: когда пришел домой и увидел обвалившийся потолок. Мокрый потолок упал на восьмилетнюю дочь — она сидела за уроками. Девочка несколько недель пролежала в больнице. Сам же Степанов, перед тем два года обивавший пороги учреждений с просьбой сделать ремонт крыши, течь которой порождала массу неприятностей, а теперь довела до трагедии, кинулся в ЖЭК: «Какие вы коммунисты?! Вы бюрократы! Сволочи! Вы предали Советскую власть!..»
И доорался: сначала вызвали милицию… он и там пытался объяснять, что к чему… так все и вышло.
Степанов смотрел на него со слабой улыбкой и кивал, повторяя:
— Хорошо, что полечили… Хорошо.
— Ну да, — согласился Бронников. — Хорошо, конечно.
— Тебя тоже вылечат, — убежденно сказал Степанов. — Не будет снов плохих. Хорошие будут.
— Ты хорошие видишь? — спросил Бронников.
— Я-то? — Степанов задумался, посидел пригорюнившись, низко свесив голову; через полминуты закрыл глаза, мягко повалился на бок, подвигал худыми ногами, зарываясь под одеяло.
Бронников вздохнул.
Насчет снов Степанов, сам того не зная, был прав: сны являлись страшные. Чаще всего почему-то именно про фашистов. Вот и сейчас: концлагерь, что ли, немецкий это был?.. Обычно просто вбегали в дом, где Бронников (кажется, он снова становился ребенком, очень похожим на Лешку) от них прятался: неслись гулкой толпой — кто в сером своем мышином, кто в дьявольски красивом черном эсэсовском: безжалостные, оскаленные, с автоматами. Неслышно скуля, он зарывался в какие-то ватные кипы, ворохи тряпья, по-собачьи рыл сено, укрываясь его мокрыми ошметками, кричал. Потом кто-нибудь толкал в плечо, а то и сам просыпался — в поту, с бешено бьющимся сердцем.
Раньше такого не было. Ну приснится, бывало, что-то страшное… но всегда какое-то абстрактно страшное, невнятное: отголоски пещерных ужасов. А фашисты? И почему именно здесь, в больнице, так одолели? При чем тут они?..
— Во давит Степанов-то, — сказал старик Никаноров. — Ну пускай, что ж. Может, ночью спать не будет. Не обоссытся тогда…
Степанова долечили, запах от его койки серьезный шел… Ну да тут запахов и без него хватало. Вонью больше, вонью меньше…
— А уснет — так опять обоссытся, — справедливо заключил Никаноров.
Говорил старик без злобы, по-доброму. Он и вообще в состоянии просветления выглядел мужиком житейски приемлемым; когда же накатывало, просто переставал вступать в контакт: погружался в себя и целыми днями, если разрешали поваляться, елозил по кровати, судорожно коля спичкой кусочки порванного в лоскуты тетрадного листа. Лоскутки были немецкими солдатами, на кровати шла война, Никаноров воображал себя то ли Жуковым, то ли самим ангелом мщения. Попав солдату в сердце, радостно смеялся, промахнувшись, сухо сообщал, что тот смертельно ранен. Ожесточение беспрерывной битвы занимало его дня три. По ночам тоже вошкался, ворча и вскрикивая; потом отпускало, приходил в себя…
Куда затейливее вел себя другой старик — Груздев. Этому втемяшилось, что стал собакой: спал более или менее по-человечески, а вот передвигался на четвереньках и гавкал на разные лады: кормежку встречал радостным лаем, санитаров — злобным. Ложкой не пользовался, жрал из миски, лакая. Неделю назад Груздев покусал дежурную медсестру, не пускавшую к телевизору, и тогда старика уконопатили в буйное…
* * *
Зарешеченное окно в глухой серый двор, небо вечно затянуто тяжелыми облаками. Несколько дней назад под вечер в доме напротив женщина мыла окно, и нежданное солнце упало прямо на подушку. Подложил ладонь: линии судьбы высветились, а тепла не оказалось — отраженный… Потом она вернула створку на место и луч улетел к другим.
Поерзал ногами. Нашарил тапочки, обулся.
Тихий Святкин стоял, как обычно, склонив плешивую голову, на коленях возле кровати: копошился, перебирая под матрасом свои сокровища — камушки, обрывки газет, заскорузлую обертку от творожной массы, еще какую-то дрянь. Старик Никаноров бранил его редким словом «мшелоимец». Оставалось загадкой, где Святкин свой хлам добывает — чистотой больница похвастаться не могла, но мусор, во всяком случае, на полу не валяется: занимаясь трудотерапией, больные, в положенную им очередь, с утра до ночи шваркали по кафелю вонючими тряпками. Тем не менее стоило Святкину выйти в коридор (делал он это неохотливо, с опаской, страшась, вероятно, за сохранность оставляемых под матрасом пожитков), как он, вернувшись, озабоченно выковыривал из карманов новое добро: половинку прищепки, дырявую подошву… Раз в две-три недели кто-нибудь из санитаров с матюками лишал его всего; день или два убитый утратой имущества Святкин лежал на кровати лицом вниз, потом упрямо принимался восстанавливать хозяйство. Упекли его соседи по коммуналке; Теремкова, смеясь, рассказывала, что комнату свою Святкин забил до упора, жил в норе, не досягавшей окна…
Бронников сразу выбросил мысль обзаводиться каким-нибудь имуществом: бумагу с карандашом под матрасом все равно не спрячешь, это не обертка от творога — санитары отнимут; а без всего остального он обходился.