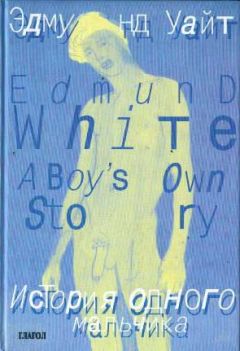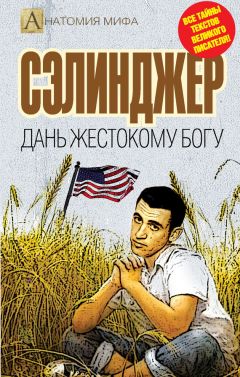По мере того как солнце, точно возвращающаяся в тело жизнь, вновь обретало власть над миром, луч отцовского фонарика делался все более тусклым, и вскоре его уже поглотила прозрачность того, что было неведомо вновь.
Когда мне было четырнадцать, за лето до курсов по подготовке в колледж, за год до встречи с Кевином, я работал у своего отца. Он хотел, чтобы я научился ценить доллар. Я упорно трудился, упорно учился и заработал достаточно денег, чтобы заплатить проститутке.
Деловой район города, где жил папа, был совсем маленький, всего десяток-другой кварталов. Каждое утро мачеха подвозила меня в город из дома, фальшивого норманнского замка, который возвышался и белел на вершине холма, над туманной долиной реки. Несколько стремительных крутых спусков, и на нас надвигался город — толчея еле ползущего транспорта, призрачные кинонаплывы чернокожих лиц, запах горячих сосисок, смешанный с кондиционированным воздухом внутри автомобиля, приглушенные выкрики торговцев газетами, говорящих на непонятном, собственном языке, мрачный вид закопченных фасадов, постепенно сближающихся, дабы вытеснить с улицы свет. Центр города волновал меня: столько людей, и среди них, быть может, есть способные толкнуть на авантюру, а то и на побег.
В детстве наш дом (не новый норманнский замок, а старый, в стиле эпохи Тюдоров) казался мне жилищем, предоставленным нам во владение Богом, но позднее я начал смутно осознавать неестественность затворничества и покоя, я понял, что, усиленно отгораживаясь от города, мы в то же время пользовались его пищей, деньгами, удобствами, услугами, даже развлечениями. Я рос среди чернокожих служанок, типичных жительниц города, Мне от них ничего не было нужно — ничего, кроме их любви. Чтобы снискать ее, или хотя бы уберечься от их молчаливого, горького негодования, я научился стелить постель и самостоятельно готовить себе завтрак. Но как бы я ни заискивал перед ними, все было бесполезно — слишком тяжелую они понесли утрату.
В конторе отца я работал на „адресографе“, машине, в то время представлявшей собой техническое новшество. Со мной трудилась Элис, женщина лет сорока, которая, точно в тревожном сне на смятых простынях, целыми днями металась от фантазии к фантазии. Эта упитанная, но элегантная женщина носила жемчужные бусы, чтобы скрыть бледную полоску на шее — шрам, оставшийся после некоего хирургического вмешательства. Полоска была очень тонкая, но Элис никогда особенно не полагалась на свою маскировку и шесть-семь раз на дню бегала в дамский туалет оценивать эффект.
Остаток энергии уходил у нее на изощренные фантазии. Каждое утро в автобусе появлялся мужчина, который неизменно занимал место напротив и самонадеянно раздевал ее своими темными глазами. В квартире этажом выше притаился другой мужчина, рычащий от вожделения — прильнув ухом к полу, он сквозь потолочное зеркало вслушивался в глиссандо шелковой комбинации, которую она могла бы снимать. „Может, мне вставить еще один замок?“ — спрашивала она. Потом, с подкупающим простодушием, она задавала другой вопрос: „Может, мне пригласить его на чашечку кофе?“ Я советовал ей этого не делать. Он мог оказаться опасным типом. Из-за ее неистребимой тяги к мужчинам я вынужден был вести себя как еще не повзрослевший ребенок; спасался я от нее только тем, что старался казаться не мужчиной, а мальчиком. Устав от своих раздумий, она вздыхала, выпивала воды и вновь устремлялась к зеркалу. Мачеха сказала, что считает эту женщину „дурехой“. Ни наша семья, ни друзья семьи почти никогда не давали характеристик близко знакомым людям, а отрицательных — и подавно. При мысли о том, что работаю вместе с „дурехой“, я испытывал чувство веселой досады — временами, неожиданно припомнив это словечко, я громко смеялся. Чувство превосходства над взрослой женщиной и будоражило, и вызывало тревогу.
Что-то в нашей работе возбуждало у нас мысли о сексе. Наши обязанности (мы должны были загружать специальный приемник конвертами, ставить на них штампы с адресами, набивать их брошюрами, потом запечатывать и пропускать через счетчик почтового сбора) требовали как раз столько внимания, чтобы помешать связной беседе, однако полностью нас увлечь не могли. Нам оставались амёбные желания, которые делились на части или соединялись, когда мы закрывали и складывали в стопку конверты, когда отшвыривали их и вертелись на табурете. „Когда он на меня смотрит, — сказала Элис, — я знаю, что он хочет сделать мне больно“. После этих слов ее приятное круглое личико казалось появившимся из-за тучи.
Как-то раз я прочел об одной пациентке психоаналитика, которая характеризовала сущность собственной личности как „миловидность“. Моя собеседница — сероглазая, с браслетами крепкого, здорового жирка на запястьях, с волосами, собранными наверху в пронзенную вилкой гребня брошь, со смущением на прелестном личике, когда она выплывала наконец из-за тучи, — окружала заботой и оберегала собственную „миловидность“ так, словно та была послушным, умным ребенком, а сама она — матерью, ошеломленной яркими огнями мира.
Она одновременно боялась и была абсолютно спокойна — боялась, что ее заметят, и пуще того боялась, что на нее не обратят внимания, до смерти боялась каждого звука за окном своей спальни, но была спокойна в своей уверенности в том, что вся эта головоломная опера поставлена, дабы преодолеть пламя и добраться до ее „миловидности“. Она и вправду была привлекательна — возможно, из моих слов это пока непонятно: печальная тень улыбки, ласковый взгляд серых глаз, безоглядная готовность помочь. Кроме того она лукавила, а, может, и умышленно притворялась слепой, скрывая от самой себя собственные сексуальные желания.
То, что я нанялся работать к отцу, внесло ясность в наши отношения. Между нами установилась строгая дистанция, которую можно было измерить деньгами. В договоре о расторжении брака точно указывался его долг матери, мне и сестре, но все равно, когда мы, дети, ехали его навещать и мама провожала нас на вокзале, она неизменно говорила: „Будьте повнимательнее к отцу, а не то он лишит нас наследства“. А впоследствии, когда сестра окончила колледж, отец вручил ей „жизненный счет“ — подробный перечень расходов, которые он понес, воспитывая ее более двадцати одного года, счет на кругленькую сумму, предназначавшийся для того, чтобы отбить у нее охоту бездумно плодить собственных детей.
Поскольку папа весь день спал, в конторе он показывался лишь перед самым закрытием — посвежевший и выспавшийся, пахнущий гамамелисным лосьоном, он шел мимо нас, с видимой неохотой одаривая собравшихся улыбками и кивками, и поднимался к своему рабочему столу, который стоял в просторном кабинете, отгороженном от нас звуконепроницаемым стеклом. „До чего же превосходный человек твой отец, настоящий джентльмен, — вздыхала моя напарница. — Подумать только, ведь твоя мачеха познакомилась с ним, когда работала у него секретаршей! Везет же некоторым женщинам!“ Мы сидели рядами, спиной к отцу. Расположившись чуть выше и позади нас, он играл роль совести, силы, заставлявшей нас страдать, когда вскоре после его появления, в конце рабочего дня, мы гуськом покидали контору. Доработали ли мы до конца? Достаточно ли потрудились?
Мачеха обычно составляла отцу компанию до полуночи. Потом мы с ней возвращались за город и ложились спать. Иногда отец сопровождал нас в собственной машине и дома садился за свой письменный стол. А бывало и так, что он оставался в городе до утра. „Поздно ночью — вот когда он встречается с другими женщинами, — сказала моя родная мать моей сестре в разговоре, который я однажды подслушал. — Он никогда не был верным мужем. Всегда находилась другая женщина, все двадцать два года, что мы были женаты. Он водит их в маленькие дешевые гостиницы. Я знаю“. Меня пленяла эта тень таинственности в столь методичном и уравновешенном человеке — как будто стоило ему, точно округлой бурой жеоде, дать трещину, и он попытался бы впиться в небо цепкими кристаллическими зубами, кварцевыми зубами страсти.
Перед ночным возвращением домой мне иногда разрешали пойти куда-нибудь пообедать в одиночестве. Иной раз я ходил и в кино (помню, я смотрел один фильм, в котором сулили показать подлинные кадры „оргий в Берхтесгадене“, но оказалось, что это всего лишь домашние съемки Евы Браун, с фюрером, сердечно улыбающимся животным и детям). Рядом со мной сидел мужчина, пахнувший „Виталисом“, и стискивал рукой мое бедро. Своими карманными деньгами и своим свободным временем я распоряжался сам.
Я рисовал в своем воображении любовника, который увезет меня из дома. Он влезет на ель у меня за окном, войдет в мою комнату и заключит меня в свои объятия. Я смутно представлял себе, как он выглядит и что говорит — меня обнимал всего лишь любящий призрак, чье лицо светилось все ярче и ярче. Он так долго не приходил, что мое ожидание вскоре переросло в ностальгию. Однажды ночью я сидел у окна и смотрел на луну, поднимая в ее честь хрустальный бокал с виноградным соком. Я знал, что холодный, неоглядный свет луны падает и на него, такого же одинокого в далекой комнате. Меня не покидала надежда, что он сумеет догадаться о моем существовании, о моей беде, сумеет узнать благодаря интуиции о четырнадцатилетнем мальчике, который ждет его в этой комнате, погруженной во тьму, в этом загородном доме.