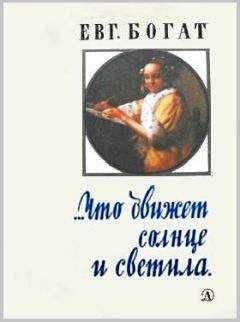Но вернемся к книге Стендаля. Самый большой враг в общении человека с искусством — тщеславие. И оно же самый большой враг в любви. Тщеславный человек не может отдаться тому непосредственному чувству, без которого окружающий мир остается для нас наглухо закрытым. Тщеславный человек чересчур занят собой, ему недоступен «талант растворения»: ни в чуде искусства, ни в чуде любви.
Тщеславный человек нерастворим.
«Ярмарка тщеславия» (определение Стендаля) убивает царство любви. «У тщеславного человека, — пишет Стендаль о современных ему парижанах „большого света“, — времени не было чем-либо восторгаться».
При чтении этой книги постепенно рождается странное чувство: ее автору мало созерцать даже и великое в искусстве. Ему хочется действий — действий в любви.
Вот он рассказывает о некоем молодом нотариусе, который ворвался с пистолетом в руке к любимой женщине, чтобы защитить ее от изверга-мужа, и мы невольно чувствуем, что Стендаль завидует этому нотариусу. Вот он рассказывает о втором возлюбленном, который забрался на незнакомый чердак и жил на нем, не выходя на улицы, чтобы из укромного окна наблюдать, не изменяет ли ему его возлюбленная.
(Из писем самого Стендаля к Метильде Дембовской мы узнаем, что и он совершал те или иные «маленькие безумства».)
А пока он вглядывается в лица людей на улицах, в церквах, в мастерских художников, ему важно понять, способны ли они на великие чувства, ибо лишь этой способностью измерялась для Стендаля ценность человека. Он называет иногда ее и более широко — способностью к воодушевлению…
Он удивительно точно умеет видеть в человеческом лице то новое, что вошло в человеческую душу, он чувствовал восхождение человеческой души из века в век и с наслаждением улавливал черты, моменты этого восхождения. Вот, оказавшись в деревне, он видит на лицах юных крестьянок не только ум, рассудительность, но и нечто «утонченно-вызывающее». Вот, сопоставляя флорентинцев на картинах ранних художников итальянского Ренессанса с образами более поздних мастеров, он пишет о том, чтó ему интересно и не интересно в человеке. Ему не интересно сухое, узкое, рассудительное, покорное условностям, чуждое увлечениям. А что интересно? Это великий вопрос. Чтобы ответить на него, мало подойти к полотну Тициана или Тинторетто, лучше углубиться в мир самого Стендаля, а для этого раскрыть его письма, письма не о любви.
Молодой, двадцатилетний, он из Парижа пишет сестре Полине:
Жалки и достойны сострадания холодные сердца, открытые только для науки! Что мне пользы знать, что Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли, если изучение этих вещей заставляет меня терять дни, дарованные для наслаждения! Немало людей одержимо этим безумием, но мы, дорогая Полина, не последуем их примеру!
Заметим, что, несмотря на чересчур резкое и ироничное высказывание о науке, он в последующих, более «трезвых» письмах к сестре советовал ей относиться к наукам серьезно — для развития ума, потому что одним лишь сердцем человек жить не может. Но сердце не должно быть холодным! Вот мысль, которой он был одержим с юношеских лет.
А через месяц он пишет ей взволнованно о могуществе сильных страстей, о том, что если человек желает что-нибудь горячо и упорно, он достигает цели. И тут же несколькими строками ниже более трезво о «добродетели и образовании» как о двух основополагающих в жизни истинах.
Через два года, перечитав задушевные и нежные письма сестры, он пишет ей: «Ты, милая Полина, рождена, чтобы стать необыкновенной женщиной». О, как хотелось ему видеть рядом с собой необыкновенную женщину! Даже если это не «больше», чем сестра.
И дальше он обращается к будущей «необыкновенной женщине»:
Только одно порождает великого гения — это меланхолия. Благородная душа, понимающая, в чем заключаются небесные наслаждения, воображает, что они существуют в повседневной жизни…
Потом к концу жизни Стендаль поймет, что «небесные наслаждения» действительно существуют и в повседневной жизни. Но в двадцать лет ему кажется, что их надо искать лишь на том уровне, который был доступен Вергилию и Шекспиру; став мудрее, он осознает, что талантом чувствовать может обладать самый обыкновенный человек, и чем больше обыкновенных людей будет обладать им, тем ярче станет жизнь.
Но в этом же молодом наивном письме он с четкостью афоризма высказывает мысль, которой останется верен до седых волос: «Мера доступного человеку счастья зависит от силы его страстей».
А в 1835 году, пережив сильные страсти и устав от борьбы, он пишет из Рима:
Я обожал и все еще обожаю, по крайней мере, мне так кажется, женщину по имени Милан. Страсть эта доходила до безумия от 1814 до 1821 года. Я получил в жены ее старшую сестру по имени Рим[5]; эта женщина достойная, серьезная, строгая, не любящая музыки. Я знаю ее досконально и глубоко: между нами не осталось ничего восторженного и романтического после четырех лет брака. Я с удовольствием покину ее для мадемуазель Валенсии, о которой говорят много хорошего, но характер девушки — загадка…
Он к концу жизни любил (и не любил) города, как женщин, потому что были в его жизни периоды, когда женщины, особенно самая любимая из них Метильда Дембовская, были для него больше, чем города — миры. Но во времена написания «Рима, Неаполя и Флоренции» он любил города, как любят города, не меньше, но и не больше.
Что же интересно Стендалю в Человеке? То же самое, что было ему интересно в девушке по имени Валенсия, — загадка. Холодные, черствые, узкие, рассудительные люди не заключают в себе загадки. Загадка живет лишь в страстном, остро и сильно чувствующем мир человеке, ибо непредсказуема и жизнь его души, и образ его действия. Существует лишь одна гарантия — он не совершит низость.
Стендаль покидал Рим в 1817 году через ворота Сан-Джованни ин Латерано.
«Великолепный вид на Аппиеву дорогу, окаймленную рядами полуразрушенных памятников…»
У одного из этих полуразрушенных памятников он остановил коляску, чтобы разобрать несколько римских надписей. Ему хотелось опуститься на колени, чтобы полнее насладиться чтением какой-либо надписи, подлинно начертанной римлянами. В эту минуту — минуту необычного переживания — мы и оставим его сейчас.
ИЗ ПИСЕМ СТЕНДАЛЯ МЕТИЛЬДЕ ДЕМБОВСКОЙ
Варезе, 16 ноября 1818 года
(Передано 17 ноября)
Самое большое удовольствие, которое я получил сегодня, было, когда я ставил дату на этом письме. Живу той мыслью, что через месяц буду иметь счастье увидеть вас. Но что делать в течение этих тридцати дней? Надеюсь, что они пройдут, как и девять длинных дней, которые только что протекли. Каждый раз, как заканчивается какое-нибудь развлечение, какая-нибудь прогулка, я снова остаюсь с самим собой и ощущаю ужасную пустоту. Я обсуждал тысячу раз, я доставлял удовольствие тысячу раз повторять себе самые незначительные вещи, которые вы говорили в последние дни, когда я имел счастье вас видеть. Мое усталое воображение уже не в силах представлять себе картины, которые отныне слишком связаны с ужасной мыслью о вашем отсутствии, и я чувствую, что с каждым днем в моем сердце становится все мрачнее.
Я немного утешился в церкви Мадонны дель Монте: я вспомнил божественную музыку, которую слышал там прежде. На днях я уезжаю в Милан, навстречу одному из ваших писем, потому что я все же рассчитываю на ваше человеколюбие и верю, что вы не откажете мне в нескольких строках, — вам так легко их начертать, а они так драгоценны, так утешительны для отчаявшегося сердца. Вы, конечно, слишком уверены в вашей абсолютной власти надо мной, чтобы вас хоть на мгновение мог остановить напрасный страх, что, отвечая мне, вы как бы поощряете мою страсть. Я знаю себя: я буду любить вас весь остаток жизни; что бы вы ни сделали, это ничего не изменит в мечте, завладевшей моей душой, в мечте о счастье быть любимым вами и в презрении, внушенном мне ею, ко всякому другому счастью! Наконец, у меня потребность, жажда видеть вас. Я, кажется, отдал бы остаток жизни, чтобы поговорить с вами в течение четверти часа о самых безразличных вещах.
Прощайте, я покидаю вас, чтобы быть еще ближе к вам, чтобы сметь говорить с вами со всей откровенностью, со всей силой страсти, меня пожирающей.
(Май 1819 года)
Сударыня,
Ах, как тянется время с тех пор, как вы уехали! А прошло всего только пять с половиной часов! Что
я буду делать все эти сорок убийственных дней? Неужели я должен отбросить всякую надежду, уехать и погрузиться в общественные дела? Боюсь, что у меня не хватит мужества перевалить за Мон-Сени. Нет, я никогда не соглашусь на то, чтобы меня от вас отделяли горы. Смею ли я надеяться любовью оживить сердце, которое не может быть бесчувственным к такой страсти? Верно, я кажусь вам смешным, моя робость и молчаливость наскучили вам, а мой приход для вас — настоящее бедствие. Я ненавижу себя. Не будь я последним из людей, я должен был бы вчера, перед вашим отъездом, добиться решительного объяснения; тогда бы я ясно видел, на что мне надеяться.