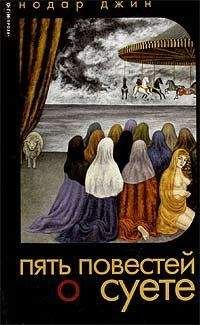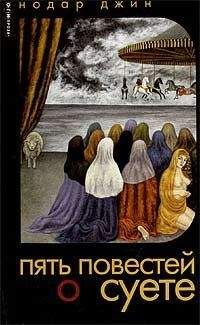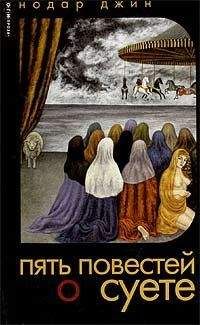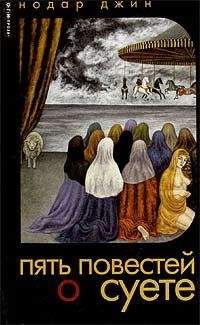— А он, действительно, сказал это трижды! — ахнула Джессика. — Значит, и вправду не пройдет!
— Не пройдет, Джейн, не пройдет! — успокоил ее Займ. — И я лично еду сейчас в Би-Би-Си: попрошу у них в Русской службе микрофон и скажу — не пройдет!
— Конечно, не пройдет! — подтвердил Мэлвин Стоун. — Потому, что никогда не пройдет!
— Ни шанса! — крякнул Гутман. — Мировая общественность и вообще! Евреи, в конце концов!
Герд фон Деминг, как и положено ему, молчал, а черные делегаты наперебой спрашивали у Аллы Розиной ее мнение, которого у нее не оказалось: кивнула мне головой — видимо, узнала — и посоветовала делегатам адресовать вопрос мне. Польщенный ее вниманием, я ответил искренне:
— Одно из двух: или пройдет или не пройдет!
Делегаты рассмеялись: им тоже было плевать, а я стал искать глазами Субботу. Ее нигде не было, и сердце у меня сорвалось вниз.
— Слушай! — шагнул ко мне Гена Краснер. — Ты прав — или пройдет или нет, но я думаю вот о чем: может, не надо уже туда лететь в любом случае? Опасно же все-таки!
— Прав и ты, Гена! — ответил я и рванулся прочь. — Не надо!
94. Жизнь можно проживать до конца только если она кажется естественной
Забыть о Москве я решил так же легко, как и быстро, — пока Гена произносил свою фразу. Так же быстро и легко ответил бы ему и на вопрос «почему?» А потому, Гена, сказал бы я, что да, правильно: кем бы ты, человек, ни был, как бы долго ни жил и где бы ни кружил, вся твоя жизнь сводится к тому мгновению, когда вдруг раз и навсегда понимаешь кто ты есть. Мне кажется, что когда, оглянувшись вокруг, я нигде не увидел Субботы, тогда я и понял чего же все-таки от моей жизни мне надо. Я говорю тебе не о любви: кто? — никто не знает что это такое, хотя рассказывают, будто она уводит любую боль и решает все вопросы существования. Я говорю, конечно, не об этом: нельзя говорить о том, чего не знаешь; а я не знаю, потому что, как и у тебя, Гена, как у всех на свете людей, у меня в душе много боли, а в голове — много пыток!
Я говорю про другое: пусть с болью и пусть с пытками, жизнь можно проживать до конца только если она кажется естественной. Пока мы живем — в нашу жизнь приходят, а потом из нее исчезают много людей, много догадок и переживаний. И мы забываем их. Забываешь — это когда существование без того, кого или что забываешь, становится естественным. Но иногда — у кого часто, у кого редко — случается такое, чего уже никогда не забудешь и без чего — ты это знаешь наперед — жизнь уже не будет естественной, без чего невозможно, как невозможно непомышление о себе.
И потом — каждому свое, Гена! Вот тебе — твоя книга про перевоплощение, про то, что один человек становится вдруг другим, как сам ты стал из акушера философом, хотя мне, по правде, не понятно — как это мысли из моей тетради ты вдруг посчитал своими. И даже, извини, мою жизнь. Или этот олух Займ: он, видишь ли, не может без того, чтобы не объявить по Би-Би-Си, что путч не пройдет. Каждому свое, — и без этой исчезнувшей женщины, которую я назвал Субботой, жизнь, быть может, мне больше не будет представляться естественной, поскольку, как мне кажется, я ее не забуду. И если даже это, как ты, наверное, думаешь, мне только кажется, — где граница между «кажется» и «есть»? Подумай и ответь, ты ведь уже не акушер, а мыслитель; и если это так, если это тебе не кажется, то ты ответишь мне: нету границы между «есть» и «кажется»! Одним словом, мне ее надо найти и отвоевать у мира для того, чтобы сделать ближней, ибо нет праздника веселее и правдивей, чем делать дальнего ближним!
…По-видимому, я не просто думал, но и бубнил вполголоса, потому что таксист спрашивал не к нему ли я обращаюсь. Нет, к доктору Краснеру. И каждый раз он заверял меня, что слышал о нем: работает там, куда я еду, в «Мадам Тюссо».
В Лондоне, конечно, шел дождь, но не английский, который берет октавой ниже, чем в остальном мире, и идет только для того, чтобы испортить настроение и навести на мысль, что жизнь справедливее всего сравнивать с мокрой салфеткой. Был не английский дождь, а зрячий, и все вокруг выглядело, как предупреждение. Даже небо казалось настолько твердым, что не верилось в мое недавнее пребывание и передвижение в нем…
В «Мадам Тюссо» Субботы не было. Был зато, как утверждал таксист, доктор Краснер, начальник по реставрации, похожий не на Гену, а на угандского людоеда Иди Амина, — только не черный, а белый. И, кстати, именно этого африканца и реставрировал, а на полке над его столом лежала покрытая пылью дурная копия сталинской головы: пропорции лица были правильные, но выражение — неожиданное. Настоящий Сталин, каким я помнил его по мавзолею, выглядел уставшим кавказским старцем, прикрывшим веки либо для того, чтобы предаться воспоминаниям о детстве, либо же оттого, что уже достаточно умудрен, а потому ничего видеть не желает. А здесь он разглядывал меня такими глазами, словно узнал соотечественника и размышлял над тем стоит ли ему сейчас прожить мою жизнь.
Отряхнувшись от его взгляда, я спросил доктора Краснера о Субботе из государства Израиль. Он ответил сперва, будто никто не хочет жить вечно, но все хотят — заново, а потом сообщил, что такой женщины не знает: стеклянные манекены делают не здесь, а в одной из трех других мастерских «Мадам Тюссо» в разных концах Лондона. В третьей, в Ислинге, которая из-за позднего часа оказалась закрытой, привратник, похожий на ботаника, объявил мне, что в течение дня было много разных женщин, а скульптор уехал довольный, ибо закончил примерки и поехал не домой, а в Австралию. Сказал еще, что воскрешение плоти — затея не стоящая, если при этом не произвести серьезную реконструкцию организма…
Потом в расчете на авось я стал разыскивать Субботу в ночных артистических барах, и, хотя был уверен, что не найду ее ни там, ни где-нибудь еще — от бара к бару, вместе с хмелью в голове, крепчали в груди отчаянье ненахождения и душное чувство символической значимости этого обстоятельства. Во втором часу раздобыл адрес ночного ресторанчика, где вроде бы собираются лондонские манекенщицы.
Нашел там только одну, — с волосами цвета синей незабудки и с незабудкой в волосах, выкрашенной охрой для начинающих блондинок. В ответ на вопрос о стеклянной израильтянке она предложила много пропахших миндалевым ликером слов, из которых стало ясно, что старый стиль, в котором работает ее русский скульптор, предпочтительней: ступни — для устойчивости — следует изготовлять из железа, руки и ноги из тяжелой ткани, бедра и туловище из папье-маше, а бюст и голову из воска. Хотя тяжеловато, но зато солидно и надежно, как у «Мадам Тюссо». Что же касается стекла, она указала на свое ожерелье из стеклянных шариков, в каждом из которых горел настоящий огонек, — факт, ставший очевидным только после того, как ее спутник, оказавшийся русским скульптором, погасил в комнате свет. Когда освещение вернулось в зал, скульптор заставил меня выпить миндалевый ликер, сообщил, что хочет быстро разбогатеть, даже если придется честно потрудиться, и посоветовал заглянуть в ночной бар для ближневосточных гостей британской столицы.
Субботы там не было; были арабы и арабки, причем, эти — в белых, а те в черных куфиях. Мужчины щеголяли складными телефонами бирюзового цвета, на которых время от времени выщелкивали номера, но — никуда не дозванивались. Отчаявшись, я пристроился к пожилой супружеской паре из Арабских Эмиратов и в надежде на скандал предложил им выпить водку за добропорядочность малых и, стало быть, слабых стран. К моему удивлению, выпили оба, хотя супруга разбавила водку апельсиновым соком, после чего ей стало жарко, и — к несчастью — она сбросила с лица черный наносник, в результате чего мне открылся вид на ее большой скосившийся нос с густым пучком волос из ноздрей и начисто выщипанные брови.
Зато араб теперь уже стал заказывать водку сам, требуя у меня поддерживать один и тот же тост за то, чтобы Аллах никогда не согласился претворять в явь человеческие сны. Еще он время от времени жаловался на территориальную отдаленность того же Аллаха от Арабских Эмиратов и территориальную же близость к Эмиратам маленького, но отнюдь, увы, не слабого и не добропорядочного еврейского государства. Потом сказал, что я ему нравлюсь, а поэтому, хотя правду всегда говорят с целью, он будет сообщать ее мне бесцельно. И пока его расхрабрившаяся от водки супруга заигрывала с гладко отполированным апельсином, перебрасывая его из ладони в ладонь и производя тем самым плещущие звуки, он вне всякой последовательности сообщил мне шесть истин.
Во-первых, 80 % телесного тепла уходит через голову; во-вторых, выслушивать грустные истории лучше всего когда тебе грустить не о чем; в-третьих, мир и алчность несовместимы; в-четвертых, любой закон есть недоверие к человеку; в-пятых, убегая от страха, мы лишь увеличиваем его; и в шестых, мужчина боится женской красоты и поэтому старается всегда унизить красивую женщину, но женщины столь же развратны, сколь мужчины.