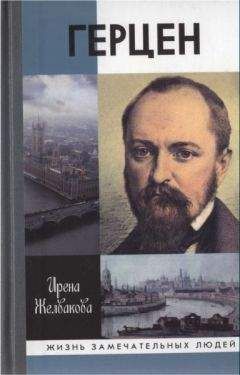У них было трое детей, два года перед тем умер девятилетний мальчик, необыкновенно даровитый; через несколько месяцев умер другой ребенок от скарлатины; мать бросилась в деревню спасать последнее дитя переменой воздуха и через несколько дней воротилась; с ней в карете был гробик.
Жизнь их потеряла смысл, кончилась и продолжалась без нужды, без цели. Их существование удержалось сожалением друг о друге; одно утешение, доступное им, состояло в глубоком убеждении необходимости одного — для другого, для того, чтоб как-нибудь нести крест. Я мало видел больше гармонических браков, но уже это и не был брак, их связывала не любовь, а какое-то глубокое братство в несчастии, их судьба тесно затягивалась и держалась вместе тремя маленькими холодными ручонками и безнадежной пустотою около и впереди.
Осиротевшая мать совершенно предалась мистицизму; она нашла спасение от тоски в мире таинственных примирений, она была обманута лестью религии — человеческому сердцу. Для нее мистицизм был не шутка, не мечтательность, а опять-таки дети, и она защищала их, защищая свою религию. Но, как ум чрезвычайно деятельный, она вызывала на спор и знала свою силу., Я после и прежде встречал в жизни много мистиков в разных родах, от Витберга и последователей Товянского, принимавших Наполеона за военное воплощение бога и снимавших шапку, проходя мимо Вандомской колонны, до забытого теперь «Мапа», который сам мне рассказы(18)вал свое свидание с богом, случившееся на шоссе между Монморанси и Парижем. Все они, большею частью люди нервные, действовали на нервы, поражали фантазию или сердце, мешали философские понятия с произвольной символикой и не любили выходить на чистое поле логики.
На нем-то и стояла твердо и безбоязненно Л. Д. Где я как она успела приобрести такую артистическую ловкость диалектики — я не знаю. Вообще женское развитие— тайна: все ничего, наряды да танцы, шаловливое злословие, и чтение романов, глазки и слезы — и вдруг является гигантская воля, зрелая мысль, колоссальный ум. Девочка, увлеченная страстями, исчезла, — и перед вами Теруань де-Мерикур, красавица-трибун, потрясающая народные массы, княгиня Дашкова восемнадцати лет, верхом, с саблей в руках среди крамольной толпы солдат.
У Л. Д. все было кончено, тут не было сомнений, шаткости, теоретической слабости; вряд были ли иезуиты или кальвинисты так стройно последовательны своему ученью, как она.
Вместо того чтоб ненавидеть смерть, она, лишившись своях малюток, возненавидела жизнь. Это-то и надобно для христианства, для этой полной апотеозы смерти — пренебрежение земли, пренебрежение тела не имеет другого смысла. Итак, гонение на все жизненное, реалистическое, на наслаждение, на здоровье, на веселость, на привольное чувство существования. И Л. Д. дошла до того, что не любила ни Гёте, ни Пушкина.
Нападки ее на мою философию были оригинальны. Она иронически уверяла, что все диалектические подмостки и тонкости — барабанный бой, шум, которым трусы заглушают страх своей совести.
— Вы никогда не дойдете, — говорила она, — ни до личного бога, ни до бессмертия души никакой философией, а храбрости быть атеистом и отвергнуть жизнь за гробом у вас у всех нет. Вы слишком люди, чтобы не ужаснуться этих последствий, внутреннее отвращение отталкивает их, — вот вы и выдумываете ваши логические чудеса, чтоб отвести глаза, чтоб дойти до того, что просто и детски дано религией.
Я возражал, я спорил, но внутри чувствовал, что полных доказательств у меня нет и что она тверже стоит на своей почве, чем я на своей. (19)
Надобно было, чтоб для довершения беды подвернулся тут инспектор врачебной управы, добрый человек, но один из самых смешных немцев, которых я когда-либо встречал, отчаянный поклонник Окена и Каруса, он рассуждал цитатами, имел на все готовый ответ, никогда ни в чем не сомневался и воображал, что совершенно согласен со мной.
Доктор выходил из себя, бесился, тем больше что другими средствами не мог взять, находил воззрения Л. Д. женскими капризами, ссылался на Шеллинговы чтения об академическом учении и читал отрывки из Бурдаховой физиологии для доказательства, что в человеке есть начало вечное и духовное, а внутри природы спрятан какой-то личный Qeist.[240]
Л. Д., давно прошедшая этими «задами» пантеизма, сбивала его и, улыбаясь, показывала мне на него глазами. Она, разумеется, была правее его, и я добросовестно ломал себе голову и досадовал, когда мой доктор торжественно смеялся. Споры эти занимали меня до того, что я с новым ожесточением принялся за Гегеля. Мученье моей неуверенности недолго продолжалось, истина мелькнула перед глазами и стала становиться яснее и яснее; я склонился на сторону моей противницы, но не так, как она хотела.
— Вы совершенно правы, — сказал я ей, — и мне совестно, что я с вами спорил; разумеется, что нет ни личного духа, ни бессмертия души, оттого-то и было так трудно доказать, что она есть. Посмотрите, как все становится просто, естественно без этих вперед идущих предположений.
Ее — смутили мои слова, но она скоро оправилась и сказала:
— Жаль мне вас, а может, оно и к лучшему, вы в этом направлении долго не останетесь, в нем слишком пусто и тяжело. А вот, — прибавила она, улыбаясь, — наш доктор, тот неизлечим, ему не страшно, он в таком тумане, что не видит ни на шаг вперед.
Однако лицо ее было бледнее обыкновенного.
Месяца два-три спустя проезжал по Новгороду Огарев; он привез мне «Wesen des Christentums»[241] Фейер(20)баха, прочитав первые страницы, я вспрыгнул от радости. Долой маскарадное платье, прочь кооноязычье и иносказания, мы свободные люди, а не рабы Ксаифа, не нужно нам облекать истину в мифы!
В разгаре моей философской страсти я начал тогда ряд моих статей о «дилетантизме в науке», в которых, между прочим, отомстил и доктору.
Теперь возвратимся к Белинскому.
Через несколько месяцев после его отъезда в Петербург в 1840 году приехали и мы туда. Я не шел к нему. Огареву моя ссора с Белинским была очень прискорбна, он понимал, что нелепое воззрение у Белинского была переходная болезнь, да и я понимал, но Огарев был добрее. Наконец он натянул своими письмами свидание. Наша встреча сначала была холодна, неприятна, натянута, но ни Белинский, ни я — мы не были большие дипломаты; в продолжение ничтожного разговора я помянул статью о «бородинской годовщине». Белинский вскочил с своего места и, вспыхнув в лице, пренаивно сказал мне:
— Ну, слава богу, договорились же, а то я с моим глупым нравом не знал, как начать… ваша взяла; три-четыре месяца в Петербурге меня лучше убедили, чем все доводы. Забудемте этот вздор. Довольно вам сказать, что на днях я обедал у одного знакомого, там был инженерный офицер; хозяин спросил его, хочет ли он со мной познакомиться? «Это автор статьи о бородинской годовщине?» — спросил его на ухо офицер. — «Да». — «Нет, покорно благодарю», — сухо ответил он. Я слышал все и не мог вытерпеть, — я горячо пожал руку офицеру и оказал ему: «Вы благородный человек, я вас уважаю…» Чего же вам больше?
С этой минуты и до кончины Белинского мы шли с ним рука в руку.
Белинский, как следовало ожидать, опрокинулся со всей язвительностью своей речи, со всей неистощимой энергией на свое прежнее воззрение. Положение многих из его приятелей было не очень завидное, plus royalistes que le roi[242] — они с мужеством несчастия старались отстаивать сваи теории, не отказываясь, впрочем, от почетного перемирия. (21)
Все люди дельные и живые перешли на сторону Белинского, только упорные формалисты и педанты отдалились; одни из них дошли до того немецкого самоубийства наукой, схоластической и мертвой, что потеряли всякий жизненный интерес и сами потерялись без вести., Другие сделались православными славянофилами. Как сочетание Гегеля с Стефаном Яворским ни кажется странно, но оно возможнее, чем думают; византийское богословие — точно так же внешняя казуистика, игра логическими формулами, как формально принимаемая диалектика Гегеля. «Москвитянин» в некоторых статьях дал торжественное доказательство, до чего может дойти при таланте содомизм философии и религии.
Белинский вовсе не оставил вместе с односторонним пониманием Гегеля его философию. Совсем напротив, отсюда-то и начинается его живое, меткое, оригинальное сочетание идей философских с революционными. Я считаю Белинского одним из самых замечательных лиц николаевского периода. После либерализма, кой-как пережившего 1825 год в Полевом, после мрачной статьи Чаадаева является выстраданное, желчное отрицание и страстное вмешательство во все вопросы Белинского. В ряде критических статей он кстати и некстати касается всего, везде верный своей ненависти к авторитетам — часто подымаясь до поэтического одушевления. Разбираемая книга служила ему по большей части материальной точкой отправления, на полдороге он бросал ее и впивался в какой-нибудь вопрос. Ему достаточен стих: «Родные люди вот какие» в «Онегине», чтоб вызвать к суду семейную жизнь и разобрать до нитки отношения родства. Кто не помнит его статьи о «Тарантасе», о «Параше» Тургенева, о Державине, о Мочалове и Гамлете? Какая верность своим началам, какая неустрашимая последовательность, ловкость в плавании между ценсурными отмелями, и какая смелость в нападках на литературную аристократию, на писателей первых трех классов, на статс-секретарей литературы, готовых всегда взять противника не мытьем — так катаньем, не антикритикой — так доносом. Белинский стегал их беспощадно, терзая мелкое самолюбие чопорных, ограниченных творцов эклог, любителей образования, благотворительности и нежности; он отдавал на посмеяние их дорогие, задушевные мысли, их поэтические меч(22)тания, цветущие под сединами, их наивность, прикрытую аннинской лентой. Как же они за то его и ненавидели!