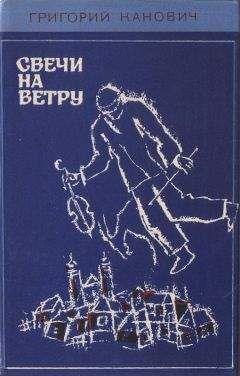— Ассир не выдаст, — сказал я.
— Ну это еще неизвестно, — бросил Пранас. — Как ни крути, а служит он фашистам.
— Один раз он может послужить и нам.
— Вот на это мы и надеемся… Перед самым выездом ты получишь оружие.
— Оружие?
— Пистолет.
— Но я не умею стрелять.
— Захочешь жить — научишься. Наука тут простая: не промахнись. Еще вопросы есть?
— Ты обещал узнать и сообщить…
— Личные вопросы потом.
— Когда?
— После всего, — сказал Пранас.
— После чего?
— После победы. Ясно? — и он снова улыбнулся своей блуждающей улыбкой. Погладил внешней стороной ладони бороду, прищурился. Глаза его стали как щелки — ничего в них не разглядишь, ни одной государственной тайны.
Но разве Юдифь — государственная тайна?
Если Пранукасу известно про сына мясника Гилельса, то про Юдифь он и подавно знает. Знает и молчит. Кого он своим молчанием оберегает? Ее? Меня? Он, что, слепой, не видит, фашистам я не служу. И никогда не буду служить: ни вашим, ни нашим…
Оказывается, оружие мне дать можно, а адрес — на, выкуси фигу!
Ну, погоди, Пранукас, ну, погоди, пригрозил я ему в мыслях. Когда-нибудь рассчитаемся. И еще до победы.
— Коза твоя пасется, — обронил Пранас. — Значит, желания сбудутся… А козленок?.. Козленок у нее случайно не от тебя, козла?..
— Дурак!
— Разве тебе не хочется иметь такого козленочка? — не щадил меня Пранас.
— Отвечаю только на политические вопросы.
— А вопрос о козленочке политический… Сугубо политический… Для того чтобы его, беленького, заиметь, надо разгромить фашистов… Ох, как надо!
— Так их не разгромишь.
— Как?
— Сидя на бочке с дерьмом.
— А в бочке, браток, не дерьмо. В бочке люди. Наше будущее. Наш завтрашний день. Будущее, Даниил, всегда немножко пахнет дерьмом. И кровью… И нечего по-чистоплюйски затыкать нос. Нечего.
— А я не затыкаю.
— Вот это другой разговор.
— Абель Авербух вызвался сопровождать сирот до самого детдома. Он желает встретиться с доктором Бубнялисом и кое-что с ним обговорить.
— Это невозможно.
— Встретиться?
— Никто, кроме тебя и Барткуса, их сопровождать не будет. А о встрече… о встрече как-нибудь договоримся… доктор Бубнялис от него не убежит.
— Доктор Бубнялис не убежит, а Абеля Авербуха могут…
— И доктора Бубнялиса могут… Еще скорее, чем твоего Абеля…
— Он не мой, — сказал я. — Он ничей.
— Не нравится мне твое настроение, Даниил. Что-то я в твоих глазах не вижу радости.
— А какая тут, Пранук, может быть радость?
— Радость борьбы. Радость достижения цели. Если ты, браток, не уверен — откажись. Живи как раньше. Чисть дымоходы! Зарывай мертвых!
— Не будем ссориться, Пранук. Лучше скажи, где и когда встречаемся…
— В шесть… У францисканского монастыря. Найдешь?
— Найду.
— Приоденем тебя и — в путь.
— Приоденете?
— Для сходства.
— С кем?
— Не с охраной же.
Манной небесной запорошил мелкий снежок. Он сеялся над речкой, над облетевшим малинником и ракитой. Коза вытянула блаженную морду, подставила ее под крупу, навострила кокетливые уши. Козленок не отступал от нее ни на шаг, тыкался во впалый бок матери, точно в ограду, и зрачки его светились, как два зеркальца — матово и незамутненно.
Он, должно быть, первый раз видел снег, и белый праздник пугал его и завораживал.
Мы расстались с Пранасом хмурые, без обычного подъема и подтрунивания друг над другом, и я весь день до вечера мотался с Юдлом-Юргисом по домам и крышам, сторонясь разговоров, чураясь людей, их расспросов и сочувствия.
Посвящать своего напарника в мою, общую с Пранасом — да и не только с Пранасом — тайну я не имел никакого права, но уйти, ничего не сказав, не мог. Дело предстояло нешуточное, может, даже смертельное. С походом на Садовую или с поездкой в местечко его не сравнишь. В случае неудачи немец, тот, с гофрированной шеей, или другой изрешетит всю бочку, и на булыжник гетто потечет не золото, а кровь. За самого себя я не боялся. В конце концов кто по мне заплачет? Служка Хаим? Свадебный музыкант Лейзер? Пранас? Сам Юдл-Юргис? Юдифь?
— Я сегодня задержусь в городе, — сказал я выкресту, когда мы спускались с крыши.
Но он ничего не ответил.
— Если со мной что-нибудь случится, не оставляйте стариков.
И тут Юдл-Юргис не проявил интереса.
— Прощайте!
— Постой! — как бы очнулся он от забытья.
Я остановился.
— То, что я у тебя сейчас спрошу, глупо. Но ты… ты знаешь те места назубок.
— Какие места? — удивился я.
— Я не помню, где их похоронили… И надписи, небось, за столько лет стерлись.
Я никак не мог взять в толк, зачем ему вдруг, после всего случившегося, тут в городе, среди громады чужих домов, понадобились могилы отца и матери. Он, что, снова собирается в местечко? На поминки?
— Каждый должен куда-то вернуться, — промолвил он глухо, обматывая вокруг шеи веревку. — Если не к живым, то к мертвым. Живых у меня там нет.
Конец веревки торчал, как фитиль: поднеси спичку, и — вспыхнет.
— Припомни, Даниил!
Я напряг память.
— Ваш отец… Шмерл Цевьян… кажется, лежит в четвертом ряду… справа… сразу же за поворотом… под расколотой сосной… За вашего отца я ручаюсь…
— А мать?
— Мать?.. не помню… Женщинами больше Иосиф занимался…
— Не беда. Отец сыну подскажет… Войны не длятся вечно. Спасибо.
Юдл-Юргис повернулся и зашагал прочь. Отойдя с десяток шагов, он оглянулся и крикнул:
— Скоро сойдет снег, и вырастет ваша трава. Высокая и мягкая, как перина.
Слова его звучали, как пароль, и я весь облился потом.
— Постарайся не упасть с крыши!.. Слышишь?
— Слышу!..
И Юдл-Юргис скрылся.
У францисканского монастыря меня, как мы и условились, ждал Пранас.
Плутая по тесным, увешанным семейным бельем и смердящим квашеной капустой дворам, мы вышли с ним к деревенской избе с поблекшими наличниками и скрипучим флюгером, возле которой стояли две запряженные бочки.
Лошади были низкорослые, заезженные вдрызг, со свалявшимися холками, слипшимися от грязи хвостами и подержанной сбруей — спасибо и на том.
Пранас провел меня внутрь, познакомил с Барткусом, крепким рябым мужчиной в поношенном армяке, заячьей шапке и в тяжелых кирзовых сапогах.
— Тебе повезло, — сказал Пранас. — У ворот стоит сын мясника Гилельса.
И он вынес из другой комнаты кожушок, такую же, как у Барткуса, заячью шапку с оторванным ухом и сапоги. Сапоги долго не налезали на мои ноги, и Пранас вертелся вокруг меня и чертыхался.
Наконец не то ноги, не то сапоги сдались.
— Вот тебе пистолет, — сказал Пранас и показал, как с ним обращаться. — Одна пуля для себя, остальные для них. Ясно?
— Ясно, — ответил я.
И спрятал оружие в кожушок. Пусть моя пуля привыкает к сердцу. Может, она его не тронет.
— Первым к воротам подъезжаешь ты, за тобой дядя Винцентас. Возвращаетесь в обратном порядке: впереди — дядя Винцентас, сзади — ты…
— Сюда?
— Дядя Винцентас знает дорогу, — пояснил Пранас. — Написать ничего не хочешь?
— Записку Юдифь?
— Не записку, а заявление.
— Заявление Юдифь?
— «Если погибну, прошу считать меня большевиком», — торжественно объявил Пранас.
— А устно нельзя?
— Устно — нельзя.
— Бумаги у нас, Пранукас, нет, — вступил в разговор Барткус. — И чернил, и ручки…
— Как же вы, дядя Винцентас, живете без чернил и без бумаги?
— Так и живем, Пранук, — ответил Барткус. — Так и живем.
— Выход один, — сказал Пранас. — Не погибнуть.
— Это замечательный выход, — поддержал его Барткус. — Поехали, а то совсем стемнеет.
Кожушок стеснял меня, и я с трудом забрался на бочку. Почувствовав возницу, кляча запрядала ушами.
— До свиданья, Пранук, — сказал я.
— Счастливо, — отозвался он.
Я дернул вожжи, и бочка тронулась с места. Какое-то время Пранас шел рядом с нами, затем отстал и отправился, видно, искать чернила и бумагу.
Пока мы с Барткусом добирались до ворот гетто, разыгралась метель. Беременные снегом и стужей тучи разродились внезапно, и пронизывающий ветер был их повивальной бабкой.
Город опустел.
Кутаясь в воротник пальто или шубы, по улице пробегал застигнутый врасплох прохожий и тут же исчезал в подворотне. Скорей, скорей под крышу!..
Белой коростой покрылись круп и холка лошади. От ветра у нее слезились не забранные в шоры глаза, и крупные лошадиные слезы падали на мостовую, смешиваясь с белизной и смерзаясь в лед.
Хлопья очумевшего снега хлестали меня по лицу… Стужа шныряла под кожушком, выискивая себе логово.
Метель — наш союзник, подумал я, ежась от холода. В непогоду охрана теряет бдительность. До бдительности ли, когда зуб на зуб не попадает, когда только и мечтаешь приложиться к фляге со спиртом и согреться.