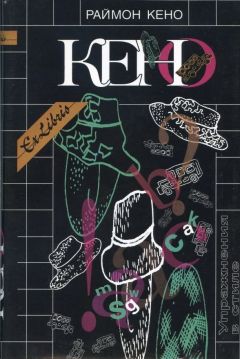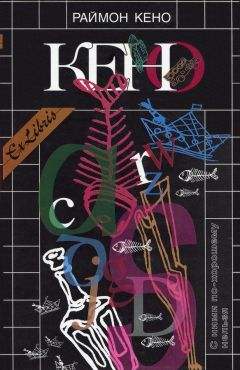Многое в романах Кено объясняется поисками «Центра мира» (название еще одной книги Генона), света, гармонии, единства противоположностей, разрешения противоречий. Восточная метафизика является писателю «Альфой и Омегой», совокупностью воззрений, увековечивающих («отменяющих») время и раскрывающих «символ Слова». Кено пишет в «Дневнике», что «вступил на духовный путь летом 1935», и добавляет: «я пустился в путь с правильными принципами, думаю, благодаря Генону: ни визионерского экзотизма, ни стремления к фантастике и прочим тщеславностям». Многие персонажи Кено, подобно автору, «ищут мудрости», многие ее находят, что еще не гарантирует избавления от плотского «плоского существования»: обретает «индивидуальность» и «знание» Этьен Марсель в «Репейнике», приближаются к мудрости Ролан Трави из «Одилии» и Венсан Тюкден из «Последних дней», избавляется от «мрака ненависти» Леамо в «Лютой зиме». Знание, мудрость и терпимость — первая стадия восхождения к гармонии и универсальному; Кено вступает на этот путь, обобщая разнообразный духовный опыт: индуизм, конфуцианство, суфизм... В «Дневнике» он признается: «Все же моя религиозная восприимчивость (хотя плевать все хотели на мою религиозную восприимчивость) совершенно не христианская. Я — мусульманин»[95]. К этому духовному синкретизму, вероятно, следует отнести ветхозаветный «стиль» и «тематику» отдельных глав «Каменной глотки». В конце 30-х Кено открывает для себя еще несколько «главных книг»: «Тайная Индия» Брунтона, «Греческие скептики» Брошара и «Даосские анекдоты о Пирроне». Вместе с автором на путь «философского озарения» встают персонажи; некоторые, как, например, Пьеро («Мой друг Пьеро»), Валантен Брю («Воскресенье жизни») или Жак Л’Омон («Вдали от Рюэля»), сами того не ведая, выбирают принципы дао. В начале 40-х годов Кено возвращается к католицизму, молится и ходит в церковь. В 1950-м публикует «Маленькую портативную космогонию», которая дает своеобразное научно-философское толкование Бытия и пытается определить место и предназначение человека. Кено читает греческих мыслителей, Генона, Лао-цзы и продолжает искать: «Где Дао? Здесь. Здесь. И еще тут. А в этом мусоре? И тут тоже. / Искать божественное даже здесь. / Принятие реальности»[96]. В 1956 году он совершает поездку в СССР и доезжает до Ташкента и Самарканда. Запад все больше разочаровывает, Восток продолжает притягивать. Отказываясь от всей «светской» оболочки, Кено все больше погружается в духовные поиски. «Я ищу свой путь, Учителя, Правду»[97], — пишет он в 1962 году. Это — путь восхождения от знания к мудрости, от прозрения к трансцендентности: «Подниматься. Подниматься постоянно. И еще: то, что наверху, подобно тому, что внизу. В центре трансцендентальное. Так что не надо хитрить»[98]. Кено продолжает перечитывать Генона, китайских мыслителей, внедряет математику в сферу метафизики и по-прежнему страдает от астмы. В 1972-м умирает его жена. В 1975-м, за год до смерти самого Кено, выходит его последнее произведение — «Элементарная мораль», построенное по принципу китайской «Книги перемен».
* * *
«Человек недостаточно тонок, недомерно глубок,
слишком много скрученных мышц, слишком
много испитой слюны, (...)
покой вернется, когда он увидит,
как форма Храма бессмертье дает».
Р. Кено. «Объяснение Метафор»«Сегодня для меня роль поэзии заключается скорее в изменении языка, чем в выражении чувств»[99], — пишет Кено в 30-е годы. Эта идея пересекает все творчество писателя и вписывается в проблематику «новофранцузского языка»; она формально отмечает расстояние, разделяющее письмо Кено — наследника Джойса — от письма Бретона, более близкого в поэтическом смысле к Малларме. Язык не может быть чем-то бесспорным и неизменным, он не дается человеку одним единым, инертным блоком, это сложное переплетение подъязыков. Каждое слово языка — точка пересечения различных регистров, точка хрупкого равновесия между различными возможностями. Кено нарушает это равновесие постоянно. Чтобы текст думал, нужно, чтобы язык отвечал и подтверждал свою жизненность, а для этого язык следует провоцировать. Кено занимается этим всю жизнь. Писатель не сближает и не сталкивает слова, как это делают сюрреалисты; он работает со словами «изнутри», оперирует их значениями, их отношением к устной традиции, этимологии и истории... Помещая свою работу в сердцевину языка, он трансформирует не только сам язык, но и его соотношение с реальностью. Работая с языком, Кено изменяет отношение человека к миру и тем самым обусловливает его поведение. «Язык должен трансформировать поведение» — в этом смысле Кено никогда не переставал быть филологически ангажированным.
В 30-е и 40-е годы Кено неоднократно возвращается к проблеме соотношения письменного и устного языка. «Мы пишем на мертвом языке», — категорично заявляет он и добавляет, что читатель себя не узнает в написанном «диалекте», опосредствованном и отчужденном. «Мы говорим на двух разных языках, совсем как греки: “кафаревуса” (чистый язык) и “димотика” (народный язык). Между ними образовался провал, который надо заполнить»[100], — рассуждает Кено. Новый язык предполагает новое мышление, а это неизбежно приводит к новой литературе: «Именно употребление итальянского породило поэтическую теологию Данте, употребление немецкого — экзистенциализм Лютера, употребление новофранцузского эпохи Возрождения заложило основы ощущения свободы у Рабле и Монтеня. Новая речь вызывает новые идеи, а новые мысли требуют свежего языка»[101]. Эти рассуждения позволяют Кено сделать вывод о необходимости выработки нового языка для современной литературы. Тем более что пример «Улисса» Джойса и «Путешествия на край ночи» Селина представляется ему очень убедительным. Важно отметить, что для Кено этот «новофранцузский язык» — не просто разговорный язык и просторечие, а новая манера литературного выражения, которая их перерабатывает. Кено не копирует разговорный язык; на его основе он строит оригинальную манеру письма, глубоко индивидуальную и, как правило, легко узнаваемую. Почти все произведения Кено отражают устный аспект языка, то, «чего нет ни в грамматике, ни в лингвистике»: модуляции, интонации, заикания, спотыкания, повторения, оговорки и т. п.
Но Кено идет еще дальше: он целенаправленно нарушает строго фиксированный порядок фразы (что с точки зрения норм французского языка является серьезным преступлением), ломает традиционный синтаксис и морфологию. Кено так же мало верит в святую неизменность грамматики, как и его персонажи: Сидролен в «Голубых цветочках» или Салли Мара в своем «Интимном дневнике». Грамматические неправильности Кено почти всегда оправданны, отчего они кажутся совершенно естественными. Такими же естественными и органичными кажутся и неологизмы. В «Голубых цветочках» герцог д’Ож выдумывает слова, «чтобы обозначить вещи, которые он видит во сне», в «Репейнике» Этьен Марсель их выдумывает «по мере того, как по ходу. Я говорю, и это что-то означает. По крайней мере, для меня; по крайней мере, я так полагаю»[102]. Ирландка Салли Мара образует двусмысленные кальки с английского, поскольку забывает французские слова, Зази неологизирует, выплескивая задорную подростковость, а персонажи «Жди-не-Жди» выстраивают целый список новообразований от существительного «существование», не иначе как для того, чтобы попытаться его осмыслить. Почти в каждом произведении по произвольному желанию автора и персонажей образуются новые термины, охватывающие все части речи и все области человеческих знаний: персонажность, мусормен, клер-жимен, парчово, ватно, гормонсенсуальный, ядренка, фифрыловка и т. д.
Но, вероятно, самым очевидным новаторством Кено является все-таки фонетическая транскрипция. Во многих текстах отдельные слова, фразы или даже целые куски пишутся как слышатся; для французского языка, в котором существует огромный разрыв между орфографией и произношением, это равносильно нормативному взрыву. Автор «переписывает на слух» не только иностранные слова: уотт, блуджинсы, ватер-пруф, фазер, дринк, капито, окей, бьютифул, инглиш, но и французские, — что создает дополнительные трудности перевода на русский: што, чиво, чортишто, ептыть, насибяппасматрел, дактожэтотаквоняит и т. п. Для многих критиков все это послужило поводом зачислить Кено в раздел «весельчаков» и «разрушителей литературы». Однако, как говорит сам писатель, «исправлять орфографию языка не значит наносить ему ущерб. Это его избавляет от подтачивающей болезни». Подобно другим языкам, французский, — продолжает Кено, — страдает от своего наследия, «снобизма педантов и корпоративных привилегий типографий». Когда персонажи Кено говорят «гспадин» вместо «господин», «пажалыста» вместо «пожалуйста», это не только «снимает ржавчину» с устойчивых формулировок, но и заставляет задуматься об их изначальном значении. Подобная корявость придает фразе большую экспрессивность, моментально определяет ситуацию и характеризует героев. В этой связи функция писателя очень важна, поскольку он критически обосновывает, развивает и украшает язык тех, кто живет рядом. Так литературный эксперимент вписывается в социальную среду и получает идеологическое значение. Любопытно, что интерес Кено к новофранцузскому появляется параллельно с интересом к политической ангажированности: довольно бурно в «Репейнике», спокойно в «Последних днях», «Одилии», «Детях Ила». Он полностью исчезает в «Лютой зиме», но постепенно возвращается в более поздних текстах, буквально взрывается в «Зази» и затихает к последнему роману. Кено убеждается, что его теория не подтверждается на практике, разрыв между устным и письменным выражением не так велик, как ему казалось раньше. Символично, что статья, в которой Кено признает «смерть» новофранцузского языка, помещается в конце последнего сборника эссе «Путешествие в Грецию». Так формально подтверждается завершение в творчестве Кено этапа, связанного с идеологией «нового языка».