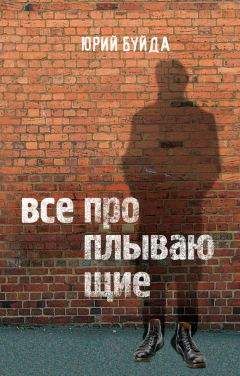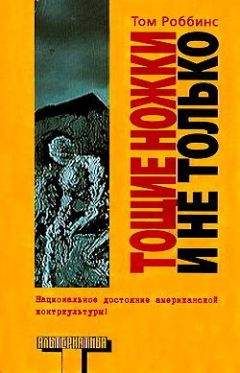На следующее утро, по пути в школу, Дурягин отнес дочери яблок и шоколадных конфет.
– Ничего мне не надо, – сказала Наташа. – Да и нельзя. Ты просто приходи ко мне, пожалуйста.
– Приду, безоговорочно приду…
Он стал приходить к дочери дважды в день: перед школой заглядывал поздороваться, вечерами засиживался допоздна.
Владимир Николаевич и не думал, что высидеть два-три часа рядом с молчаливой дочерью – мучительный труд. Он не знал, о чем с нею говорить, а если все же и затевался разговор, – она отвечала односложно или просто тихо вздыхала. Особенно тяжелы были воскресенья.
Чтобы хоть чем-нибудь занять себя, Владимир Николаевич принес с собою альбом, карандаши и принялся набрасывать портрет дочери. Он изобразил узкую палату с высоким потолком, кровать, тумбочку и уже после этого – девушку, накрытую одеялом. Вообще-то, ему нравилось писать причудливые рельефы тканей, игру света и тени на скомканном холсте или блеск льющегося шелка; нравилось писать и женские волосы – тогда как лица получались у него стылыми, статичными. Но тут вдруг не обнаружилось ни складок ткани, ни волос: дочь была такая бесплотная, что одеяло лежало плоско, как на столе, а волосы ее были скрыты белой косынкой, – художнику оставалось довольствоваться маленьким бесформенным носом, углом подбородка и тенями в глазных впадинах.
– Какое красивое дерево – сирень, – вдруг прошептала она. – Райское дерево…
Перекур по дороге домой на мосту через Лаву давно стал ритуальным. Прижимая локтем к боку альбом и поеживаясь от свежего весеннего ветра, Владимир Николаевич бездумно смотрел на сверкающую под закатным солнцем стеклянную крошку реки. По-весеннему пахло талой землей и еще чем-то остро-свежим. Владимир Николаевич со вздохом бросил окурок вниз, поправил альбом под мышкой – и вдруг замер. Он понял: дочь умирает, а он ее никогда не любил, и у него останется этот рисунок. Этот. Он вырвал лист из альбома и, зажмурившись, изорвал в клочья. Швырнул вверх – ветер подхватил.
На следующий день он пришел к дочери с коробкой акварельных красок.
– А мне нравилось, как ты карандашом ширкал, – сказала Наташа. – Ширк, ширк… Так тепло…
– Ничего, – пробормотал отец. – Скоро лето. Я нарисую тебе сирень.
И он принялся рисовать сирень.
Владимир Николаевич налил еще по одной. Выпили.
– Теперь туда пойдем.
И повел меня в гостиную.
Стены этой довольно большой комнаты, обставленной унылой фанерной мебелью, со столом под плюшевой скатертью и бахромчатым абажуром под потолком, – стены от пола до потолка были увешаны акварелями, изображавшими цветущую сирень.
Владимир Николаевич включил свет, хотя в гостиной было светло, и развел руками.
С папиросой в зубах я медленно двинулся вдоль стены. Сирень цвела пышно, сирень бушевала под ветром, сирень никла под дождем, сирень пылала ярким серебром, сирень плыла в ярком весеннем свете, сирень яростно белела на фоне фиолетового предгрозового неба, – она была всюду, как сама жизнь, – и на мгновение я представил себе, что чувствовал этот человек, изо дня в день рисовавший сирень у постели умиравшей дочери, тихо дышавшей в узкой желтой палате, и мне вдруг стало страшно, и я отвел взгляд от последней акварели, ибо она и впрямь была последней: внизу стояла дата – день смерти Наташи Дурягиной.
– Дерево смерти, так-то, – скучным голосом проговорил Дурягин. – Понимаешь, какая жуть? Я не любил ее.
– А это?
– Это не любовь. Это – это прости меня за ради Христа Бога, пожалуйста, деточка моя, единственная, дорогая моя, Наташка моя!..
Я не решился утешать его. Мы выпили на посошок.
– Насовсем уезжаешь? Тогда погоди. Какая тебе больше понравилась?
– Владимир Николаевич…
– Ладно, только без философии мне.
Он вынес из гостиной свернутую трубкой акварель, обернутую газетой. Я не поручусь, что от нее не пахло теми же пошлыми духами «Белая сирень», которыми пользовались почти все женщины городка.
– От дождя ее держи.
– У меня портфель.
Мы попрощались. Как впоследствии выяснилось, действительно – навсегда.
Через несколько дней я уехал.
Акварель сохранилась. Вот уже почти тридцать лет она висит над моим письменным столом. Бурно вскипевший под ветром, ярко вспыхнувший под солнцем влажный пышный куст сирени со слепяще-белыми и бледно-лиловыми пузырящимися спелыми гроздьями, брызжущими сладкими каплями света, вызывающий радостный озноб и счастливое изнеможение, – пламенно ликующий сгусток жизни, беззаконной, как само бессмертие, – дерево смерти – слепок души бессмертной – да-да, бессмертной души и любящей, любящей, любящей…
В начале сентября Курзановы убирали картошку на дальнем огороде, на окраине городка, напротив старого парка, ярко желтевшего за железнодорожной линией.
Было воскресенье.
На огород отправились ранним утром, взяв с собою еды. Ирина Николаевна и шестнадцатилетний Андрюша выбирали картошку из борозды за плугом, на рукояти которого мокрой седой грудью наваливался конюх Сашка, белобрысый широкоплечий мужчина. Сергей Иванович Курзанов водил лошадь за узду. Десятилетняя Оля сидела на плащ-палатке, расстеленной на траве рядом с участком, или бродила по дороге, за которой тянулись такие же картофельные поля – на них копошились мужчины, женщины и дети с лопатами и ведрами (копать «под лошадь» было неэкономно: плугом резалось много картошки).
Наконец Сашка распряг лошадь. Вместе с Сергеем Ивановичем они вскинули плуг на телегу, где уже громоздились мешки с картошкой. Андрюша развел костер из жухлой ботвы и веток, натасканных Олей из лесополосы по эту сторону железной дороги. На плащ-палатке разложили хлеб, огурцы, вареные яйца и жареное мясо. Оля ждала, когда прогорит костер, чтобы закатить в угли картошку. Сергей Иванович, болезненно сморщившись, откупорил бутылку водки и налил в граненые стаканчики. Выпив и закусив, Сашка уехал (пообещав по пути сбросить мешки во дворе Курзановых).
– Как пахнет! – Ирина Николаевна зажмурилась и вытянула ноги. – Люблю я, когда палят ботву…
Сергей Иванович плеснул в стаканчик водки и протянул жене.
– Для цвету, как здесь выражаются, – сказал он с усмешкой.
– Ты так произносишь «здесь», словно приехал сюда неделю назад. – Она взяла стакан и глубоко вздохнула: – Осень, господи… – Пригубила водку, вернула стакан мужу и закурила папиросу «Люкс». – Знаешь, Андрюша, мы ведь с папой познакомились осенью сорок второго. Он был курсантом, вот-вот выпуск – и на фронт, и мы решили не откладывать дело в долгий ящик и тотчас пожениться. – Попыхав дымком, бросила папиросу в костер. – А на следующий день я испугалась и стала искать пути к ретираде. Но он явился ко мне блестящим офицером – фуражка, ремни, сапоги, кировские наручные часы, – как тут было устоять?..
Она рассмеялась и аккуратно вытерла губы бумажной салфеткой.
Сын слушал ее с напряженным выражением лица: он плоховато слышал. Отец вдруг встал и пошагал по перепаханному полю, то и дело наклоняясь и вороша рукою кучки ботвы: искал оставленную картошку.
Андрюша отвернулся, чтобы не видеть задрожавшего лица матери. Ей было сорок пять, но никто не давал ей ее возраста: Ирина Николаевна сохранила прекрасную фигуру, у нее была высокая полноватая шея, при взгляде на которую, как выразился однажды доктор Шеберстов, рука сама тянется к бритве.
– Пора домой! – крикнул отец с поля. – Собирайтесь!
Оля выгребла палочкой из костра полусырую картошку и, обжигаясь, завернула в лопух.
Поздно вечером, когда домашние угомонились, Ирина Николаевна взялась за проверку ученических тетрадей. Она была завучем единственной в городке средней школы и вела уроки русского языка и литературы в старших классах.
Андрюша, чуть приоткрыв дверь, любовался матерью, ее профилем, напоминавшим женские профили на древнегреческих геммах, ее длинными и тонкими твердыми пальцами с короткими ногтями, ее плечом, обтянутым тусклым шелком домашнего халата, ее четко вырезанным ухом с капелькой сережки на мочке… Он жарко покраснел, вдруг вспомнив, как летом в их сад явился доктор Шеберстов, рослый усатый бабник, ёра и умница, о котором в городке говорили, что единственной женщиной, не ответившей на его домогательства, была стюардесса с рекламы «Аэрофлота» на стене сберкассы. Андрюша сидел на корточках за кустом смородины и видел, как доктор взял из рук матери лейку – мать поливала грядки с укропом и морковью. Ирина Николаевна была в темном от пота ситцевом сарафане с глубоким вырезом, ее плечи покраснели и лупились. Шеберстов схватил ее за руку и поцеловал – она отклонилась, и поцелуй пришелся в ухо. «Ирина Николаевна, Господи Боже!» – воскликнул Шеберстов, обняв ее за талию, – и тотчас понизил голос. «Да кто ж вам мешает? – с улыбкой оглядывая сад, нараспев ответила она. – Только не я». И вдруг прижалась к нему высокой грудью. Андрюша бросился лицом в траву. Он страстно, болезненно любил отца и мать, он тайком плакал, когда родители не разговаривали друг с другом и с детьми, переживая очередную размолвку, и вскидывался под одеялом от ночного стона матери – она совершенно детским голосом громко выпевала за стеной: «Сережа, мальчик мой любимый!..» – и от этого ее стона сердце его становилось нестерпимо горячим…