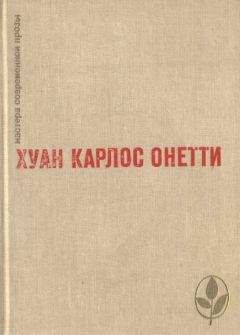— Она больна, и ей уже пора спать, — сказала Хосефина. Она не шевелилась, стараясь не спугнуть руку, помогая ей еще тяжелее давить на плечо. — Вы не хотите уходить? Вам не холодно, здесь, в саду?
— Да холодновато, — согласился Ларсен.
Женщина, все еще улыбаясь и прикрыв маленькие блестящие глаза, погладила собаку, чтобы ее успокоить. Потом приблизилась к Ларсену, неся на плече его руку так уверенно, будто рука была прикреплена. Медленно она подняла к нему лицо, пока он не нагнулся, чтобы ее поцеловать, смутно вспоминая, узнавая губами знакомый жар и покой.
— Глупый, — сказала она. — Все это время глупый ты был.
Ларсен кивнул утвердительно. На него смотрели, словно бы встреченные вновь, циничные, искрящиеся глаза, большой невыразительный рот, показывавший зубы лунному свету. Покачивая головой, женщина простодушно и весело дивилась глупости мужчин, абсурдности жизни, потом еще раз его поцеловала.
Она повела его за руку, и Ларсен, идя за нею, почти касаясь наготы статуй, пересек границу, отмеченную в центре сада беседкой, и услышал новые запахи растений, сырости, хлебопекарной печи, огромного, наполненного шорохами птичника. Вот наконец он ступил на плиты нижнего этажа дома, под высокое цементное перекрытие, отделявшее жилые помещения от земли и воды. Спальня Хосефины находилась тут, внизу, на уровне сада.
Ларсен улыбнулся в полутьме. Мы, бедняки, подумал он беззлобно. Она включила свет, позвала его в комнату и сняла с него шляпу. Ларсену не хотелось осматривать комнату, пока Хосефина ходила взад и вперед, что-то приводя в порядок, что-то запрятывая; он стоял, ощущая в лице давний, позабытый жар молодости, не в силах сдержать тоже давнишнюю, похотливую, порочную улыбку и приглаживая на лбу жидкую прядь седоватых волос.
— Располагайся, — сказала Хосефина спокойно, не глядя на него. — Я схожу посмотрю, не нужно ли ей чего, и вернусь. Дурочке-то.
Хосефина быстро вышла и бесшумно прикрыла дверь. И тут Ларсен почувствовал, что весь тот холод, которым он пропитался во время поездки и за эту одинокую, последнюю зиму, прожитую на верфи, добрался до самых его костей, и, где бы он, Ларсен, ни оказался, холод выходил наружу, создавая вокруг непроницаемую ледяную атмосферу. Он заставил себя улыбаться и забыть обо всем — пылко и восторженно принялся разглядывать комнату служанки. Он быстро кружил по ней, одни предметы трогал, другие брал в руки, чтобы лучше рассмотреть, испытывая умиротворенное чувство, приглушавшее печаль, дыша перед смертью воздухом родимой земли. Да, здесь опять была металлическая кровать с расшатанными прутьями, которые будут дребезжать при толчках; таз и при нем кувшин из зеленого фаянса с выпуклым узором лапчатых водяных растений; зеркало, обрамленное жестким пожелтевшим тюлем; эстампы с изображениями дев и святых, фотографии актеров и певцов, увеличенный карандашный портрет умершей старухи в грубой овальной раме. И запах — сложный, никогда не выветривающийся запах закрытого помещения, женщины, кухни, пудры и духов, кусков дешевого полотна, спрятанных в шкафу.
И когда Хосефина вернулась с двумя бутылками белого вина и одним стаканом и со вздохом прикрыла ногою дверь, чтобы оградить его от наружного холода и ненастья, от когтей и стонов собаки, от всех прожитых в заблуждении лет, Ларсен осознал, что сейчас-то и наступил по-настоящему тот миг, когда надо бояться. Он подумал, что теперь его вернули к нему самому, к той кратковременной истине, какой было его отрочество. Он снова очутился в поре своей ранней юности, в комнате, которая могла быть его комнатой или комнатой его матери, рядом с женщиной, которая была ему ровней. Он мог жениться на ней, прилепиться к ней или уйти, но, что бы он ни сделал, это бы не нарушило братского чувства глубокой и прочной связи.
— Правильно сделала, дай мне глотнуть, — сказал он и только теперь согласился присесть на край кровати.
Он выпил с нею из одного стакана и попытался напоить ее допьяна, отвечая на поток столько раз слышанных выдумок, вопросов, упреков рассеянной и надменной усмешкой, которая ему была разрешена еще на несколько часов. Потом сказал: «Помолчи-ка ты» — и, осторожно отставив кувшин с цветами и листьями, сжег в тазу гарантию на счастье, подписанную старым Петрусом.
Ему даже не хотелось спрашивать про женщину, спавшую на верхнем этаже, в той обетованной земле, которую он сам себе посулил. Он позволил себя раздеть и всю ночь требовал молчания, узнавая родственную плоть и простодушное вожделение женщины.
На заре он простился и произнес все требуемые клятвы. Ведя Хосефину под руку, идя между нею и собакой, Ларсен проследовал до ворот в невообразимой, уже безлунной тишине и ни до, ни после поцелуя не пожелал обернуться, чтобы взглянуть на громаду недоступного дома. В конце улицы он свернул направо и зашагал к верфи. В этот час, в этих обстоятельствах он уже не был Ларсеном, никем не был. Ночь с женщиной была прогулкой в прошлое, свиданием, выпрошенным на спиритическом сеансе, была улыбкой, утешением, сладким туманом, который мог достаться любому другому.
Ларсен дошел до верфи и поглядел на огромный темный куб, потом сделал крюк, чтобы тихонько проведать домик, где когда-то жил Гальвес со своей женой. Он услышал запах эвкалиптовых дров, наступил на кухонные отбросы и, медленно согнувшись, присел на ящик и закурил сигарету. Так, сгорбясь, неподвижно, он сидел здесь, в самой высокой точке мироздания, и сознавал, что находится в центре абсолютного одиночества, о котором подозревал и которого почти желал так часто в былые годы.
Вдруг он услышал шум, потом увидел желтый, резкий свет в геометрически ровных щелях домика. Вначале раздался слепой, жгучий протест щенят, потом, чем больше он вслушивался — что было ошибкой, — тем больше человеческого становилось в звуках, уже почти понятных, проклинающих. Возможно, зловещий свет сказал Ларсену больше, чем придушенный, непрерывный стон; он прикрыл глаза, чтобы не видеть этого света, и продолжал курить, пока не обжег себе пальцы, — он, некто, бугорок на вершине ледяной ночи, пытающийся не быть, превратить свое одиночество в отсутствие.
С гнетущим чувством он поднялся и побрел к домику. Став на цыпочки, Ларсен дотянулся до аккуратно выпиленного в стенке отверстия, которое они называли «окном» и прикрывали кусками стекла, картона и тряпками.
Он увидел женщину в постели — полунагая, окровавленная, она тужилась, вцепившись руками в голову, которая двигалась яростно и ритмично. Увидел поразительно огромный, круглый живот, быстрое сверканье остекленевших глаз и стиснутых зубов. Он не сразу понял и осознал, что здесь западня. Но, осознав, вздрогнул от страха и отвращения, отошел от окна и направился к берегу. Чуть не бегом, ступая по грязи, он миновал спящий «Бельграно», через несколько минут был на дощатой пристани и со слезами на глазах вдохнул запах невидимых растений, древесины, гниющих луж.
Перед рассветом люди с катера разбудили его — он лежал под щитом с надписью «Пристань „Верфь“». Ларсен узнал, что они плывут на север, и они без разговоров взяли у него часы в уплату за проезд. Скорчившись, сидел он на корме и ждал, пока закончат погрузку. Уже занимался день, когда наконец включили мотор и послышались прощальные выкрики. Кутаясь в пальто, удрученный и простуженный, Ларсен воображал залитый солнцем пейзаж, на фоне которого Хосефина играла с собакой; он слышал томное и надменное приветствие дочки Петруса. Когда рассвело, он посмотрел на свои руки — разглядывал линии ладоней, следил, как набухают вены. С усилием повернув голову, он смотрел — пока катер отчаливал и, накренясь, виляя в стороны, устремлялся к середине реки, — на быстро разрушающуюся верфь, на беззвучно рассыпающиеся стены. Его уши, глухие к жужжанью мотора, различали шорох растущего меж груд кирпича мха и пожирающей железо ржавчины.
(Или — и это вернее — люди с катера его нашли, чуть не наступив на него, — в черном пальто он сидел, согнувшись так, что голова касалась колен, защищенных эмблемой его достоинства, его шляпой, и, весь мокрый от росы, бредил. В грубых выражениях он объяснил, что ему надо бежать, замахал, сам того пугаясь, револьвером, и ему дали по зубам. Потом кто-то пожалел его — подняли его из грязи, дали выпить глоток водки, посмеялись, похлопали по плечу, сделали вид, будто отряхивают грязь с пальто, с этой черной униформы, потрепанной жизненными бурями, слишком узкой для его тучного тела. На катере их было трое, их имена известны; не торопясь и не делая лишних шагов, они двигались в утреннем холоде между катером и маленьким навесом для товаров, грузя всякие вещи, кротко и терпеливо переругиваясь. Ларсен предложил им часы — они полюбовались, но не взяли. Стараясь не задеть его самолюбие, они помогли ему забраться на катер и усадили на скамью поближе к корме. Пока катер содрогался от грохочущего мотора, Ларсен, прикрытый кучей сухих мешков, которые на него набросали, мог во всех подробностях воображать разрушение верфи, вслушиваться в шорох разложения и упадка. Но невыносимей всего было, наверно, прикосновение неповторимого, прихотливого сентябрьского ветерка, первый, еле уловимый весенний аромат неудержимо проникавшей во все щели дряхлой зимы. Он дышал им, слизывая кровь с разбитой губы, а катер тем временем, задрав нос, мчался вверх по реке. Ларсен скончался от пневмонии в Росарио меньше чем через неделю, и в больничной книге проставлено полностью его настоящее имя.)