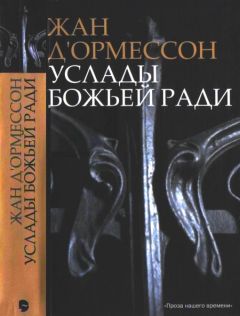Я вовсе не думаю, что моя семья воплощала в одиночку всемирную историю или что она была символом прошлого. Сами-то члены семьи, возможно, так и считали. Но она не заслуживает ни такой чести, ни такого бесчестия. Наша семья достаточно активно участвовала в истории прошлого, чтобы выглядеть в моих глазах почти неотличимой от последней. Я, разумеется, не покушаюсь на неисчерпаемое богатство прошедших лет. Мне довелось рассказать лишь о немногих людях и событиях. У всех, особенно у старших из вас, сохранилось свое сокровище, сливающееся с воспоминаниями детства: старый домик с садом в провинциальном городке, отец или дед, уходящие на войну или вернувшиеся с войны, тихие вечера без каких-либо событий, просто счастливые дни, где-нибудь в Бретани или в Оверни, далекие отклики из удивительного мира: гибель Шарля Ненжесера и Франсуа Коли в Северной Атлантике при перелете из Европы, бои боксера Карпантье, убийство в Марселе короля Югославии, самоубийство Ставиского в горах… Я поведал здесь свои воспоминания о моих близких прежде всего затем, чтобы поговорить о них еще раз и чтобы таким образом они не умерли окончательно. А еще затем, чтобы поговорить о вас, чтобы вы тоже вспоминали о себе и о ваших близких.
Ведь я хорошо знаю, что жил в привилегированном положении и что солнце нам светило больше, чем другим. И знаю также, что многие расстались с прошлым, как с назойливым кошмаром. Так пусть же услада Божья будет в том, чтобы положить конец кошмарам и чтобы солнце светило для всех! Я уже говорил и повторяю, и не перестану повторять: я не смотрю на прошлое как на образец для будущего. Ведь жена Лота была обращена в соляной столб именно за то, что оглянулась назад. Однако вместе с тем я не воспринимаю прошлое как мерзость из мерзостей, достойную лишь осуждения и забвения, чтобы на его месте построить города счастья. После Содома и Гоморры были и похуже места. Я полагаю, что многие попытаются также избежать и будущего, но это им не удастся. Когда это будущее, в свою очередь, станет прошлым, люди увидят, лучше оно или хуже прожитых нами дней.
Что может быть абсурднее, чем обвинять Аристотеля в том, что у него были рабы, а моего деда упрекать в том, что он прожил свою жизнь так, как он ее прожил? Что может быть более отвратительного, чем желание возродить в наши дни рабство, и что может быть более глупого, чем стремление жить сегодня так, как жил мой дед? Каждое поколение живет в согласии со своими возможностями в области техники и со своими нравами. Разве могли мудрейшие из древних греков, не имевшие механизмов, представить себе отмену рабства? Если говорить только о силе, то пусть самые слабые склонят головы: я говорю это не мудрствуя лукаво, поскольку все, что прошлая жизнь могла дать, давно уже перешло вместе с оружием и обозом на сторону самых слабых. Но если говорить о морали, то начать нужно с того, чтобы поместить ситуации и людей в их исторический контекст. В свое время и для своего времени — это смешно, не правда ли? — дед мой был праведником. Он был из тех праведников, из тех добропорядочных людей, которые в прошлом заполняли собой страницы назидательных романов. Надо иметь особый талант, чтобы различить мораль завтрашнего дня, медленно прорастающую сквозь сегодняшние нравы и надежды на будущее. Таким талантом мы, разумеется, не обладали. Я согласен, чтобы и деда моего, и отца, и Плесси-ле-Водрёй, и всех нас, сколько там было, обвиняли в неспособности приспособиться к нынешним временам или, если вам так уж хочется, в глупости. Но я не хочу, чтобы нас обвиняли в несправедливости. А Дрейфус? — скажут мне. Дрейфус, эта заноза в нашем теле? Что тут скажешь? Разве что следующее: в том прошлом вокруг имени Дрейфуса возникло по крайней мере целое дело, и был суд. А сколько Дрейфусов, после того Дрейфуса, не дождались даже суда?
Завтра настанет другой день. Наступит новое счастье. Вчера было вчерашнее счастье. У завтрашнего дня будет своя честь, у вчерашнего была своя. Верим ли мы сегодня в будущее так же слепо, как верили волхвы конца XIX века? Действительно ли мы уверены в наших триумфальных зорях и в поющих завтра? Но течение времени и его непрерывность учат нас не дешевому скептицизму. Надо, чтобы завтрашний день вытекал из вчерашнего и отбрасывал его в прошлое. Чем была бы Божья услада, если бы не было течения времени, которое мы так долго ненавидели? Да простит меня мой дедушка, не любивший потока времени: мой рассказ о прошлом заканчивается триумфом времени. Что может быть более естественного? Есть только один способ, один-единственный, избежать потока времени: это выбрать смерть. И мы это сделали.
У меня возникает мысль, а не участвовал ли и Ален, на свой парадоксальный манер, в нашем решении уйти из этого нескончаемого мира. Он ведь тоже хотел, чтобы наступил конец времени и истории. Хотел воображаемого царства, утопии, как и мой дед. Только Алену они виделись в будущем, после революции, а деду — до. Мне ближе точка зрения моего отца: он связывал свои надежды с переменами, основанными на памяти. Подобно ему, я вижу себя разделенным между этими двумя противоположными мирами, полными восторга и силы: между изменением и воспоминанием. Но выбирать окончательно между тем и другим я отказываюсь.
Вот я и уподобился деду, то и дело оборачивавшемуся на дом своих предков в час расставания. Мне тоже трудно оторваться от моих теней. Ведь когда я смотрю в последний раз на каменный стол в те дни под липами Плесси-ле-Водрёя и на призраки близких, застывшие навеки в неподвижности смерти, то как я могу не заметить вызывающие у меня ужас и восхищение те изменения, которые произошли в мире? Разумеется, изменения в худшую сторону. Во времена моего дедушки были леса, деревни были более красивыми, а города более приятными для проживания, было меньше автомобилей и не было бомбы. Но были и изменения к лучшему. Всем сердцем и всеми моими силами я остаюсь учеником Жан-Кристофа: я верю, — эта вера подобна всякой другой вере, а поскольку счастье и несчастье бессмысленно сравнивать, то я не обязан предъявлять никаких доказательств, — что добро является союзником времени и что постепенно, незаметно, скачкообразно, с резкими остановками и отступлениями добро все же одерживает победу над злом. Ни мой дед, ни Ален не жаловали смешной миф, именуемый прогрессом: дедушка отвергал его, а Ален в него не верил. Оба они сходились на идее катастрофы, но один из них ее желал, другой — боялся. Прогресс и наука, с которой он неразрывно связан, сегодня не в чести. Их долго превозносили, а теперь поливают грязью. Ничто так быстро не меняется, как модные идеи. Я не собираюсь принимать чью-либо сторону в спорах наших мыслителей. Я просто хочу, как и отец мой в свое время, чтобы ничто не было утрачено в этом мире, который вызывает у меня любопытство, симпатию и поднимает мне настроение.
Мне интересен и вчерашний мир, и сегодняшний. А также завтрашний. В конце века, когда наступал вечер, слуги в ливреях — вы представляете себе? — проходили по всем комнатам, по вестибюлям, заходили в бильярдную, в столовые, в гостиные, в спальни и зажигали одну за другой, как на праздничной сцене, керосиновые лампы времен детства моего отца. И в ночной тьме возникал театр теней, которого никогда не видели ни вы, ни я. Там был старик, но это был не мой дедушка, а отец дедушки. А сам дедушка был еще относительно молод, где-то между тридцатью и сорока годами. Он целовал руку своей матушке. В доме были дядюшки, двоюродные дедушки, двоюродные тетушки и просто тетушки. Бывал у нас епископ и приходской кюре, генерал, словно возникший из еще не написанных тогда язвительных стихов Превера, два полковника, какие-то посторонние люди, застрявшие у нас на пять-шесть месяцев, родственники из Бретани или Прованса. Но не было ни префекта, ни банкиров. В окружении слуг в голубых одеяниях на французский манер, которые несли факелы, все это прекрасное исчезнувшее общество двигалось кортежем в столовую. Не помню только уже, в котором часу: может, в семь с четвертью?
Или в половине восьмого. А может, ровно в семь. Не знаю. Меня может извинить мое отсутствие: я еще не вошел, за полчаса до взрослых, в окружении английских бонн и нянек в чепчиках в детскую столовую. Не будем гадать, если позволите, что говорилось за столом моей прабабушки. Ничего гениального, я полагаю, и ничего такого уж умного. Но тон был неподражаем. У истории есть такие секреты, которые не сумеют передать ни книги, ни кинематограф. Есть сюжеты, более таинственные, чем имя Железной Маски или загадка смерти сына Людовика XVI: слова моего дедушки, реакция бабушки, аромат эпохи, дух времени, та несравненная банальность, которая и составляла повседневную жизнь. Мы знаем, какими были костюмы, обстановка, а часто и слова, но нам не хватает песни. Мы никогда не узнаем, как пели Паста или Малибран, как танцевали Камарго, Карлотта Гризи, Анна Павлова, как произносили монологи Берма и Шанмеле. Все то, что не было пережито, может быть только восстановлено, подобно дворцам на Крите или тем ярким зрелищным фильмам, которые придумывают прошлое. Не это ли хотел сказать Гарин, персонаж из книги Мальро «Завоеватели», когда спрашивал, какие книги стоит писать, кроме мемуаров? Я написал эти воспоминания, чтобы как можно лучше запомнить интонации моего дедушки, его неповторимый запах, неуловимые жесты, его манеру держаться. Но я — быть может, это несколько неосторожно с моей стороны — ожидаю столько же радости, другой радости, но столько же, от того мира, в который мы вступаем и у которого мой дед, я уверен, увидел бы лишь отрицательную сторону.